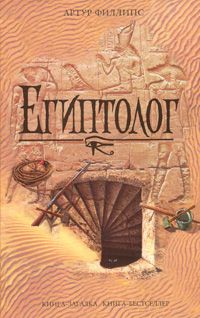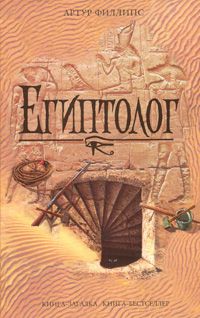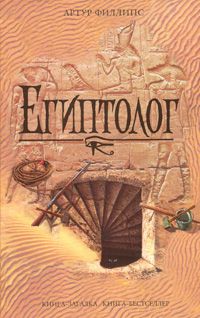Всеволод Крестовский - Петербургские трущобы. Том 2
– Что у вас, помер кто-то, слышно? – спросил голос Гречки.
– Ах, уж и не говори!.. Такое это у меня горе!.. Ведь самая душевная моя, любимая моя померла-то! – встосковалась Катя Балыкова. – Сколько раз, бывало, попросишь письмо к тебе написать – никогда отказу не было.
И арестантка со всеми подробностями, на сколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой.
– Ты говоришь, деньги приказала положить с собою? – очень серьезно и тихо спросил Гречка видимо изменившимся голосом.
– Ах, уж так-то просила… Со слезами, говорят… Это, мол, самая заветная вещица моя, приказывала им, ни за что, мол, расстаться с нею не желаю.
– Гм… И ты не врешь, что сама видела, как оно в ладонке зашито?
– Зачем врать, своими глазами видела. Потому, я очинно любила покойницу, – объясняла Балыкова, – так я выпросилась у Мавры Кузьминишны, чтобы взяла меня вместе с собою обмывать да убирать ее, – тут вот и видела, как она, значит, на шею надела ей.
– Гм… А деньга-то самая, рубль старинный, что ли?
– Старинный, точно старинный – тяжельше нонешних.
– Да это верно?
– Что сама видела да слышала, то и говорю, – подтвердила Катя. – Мавра Кузьминишна и допреж того знала про этот самый рубль, – продолжала она, – потому, сказывала она, что покойница ей не раз говорила про него: они со старушкой-то нашей словно дочка с матерью жили. Так вот она и сказывала, что рубль-то петровский какой-то… верно, особенный… в семье у них издавна хранился.
Если б Катя Балыкова могла видеть Гречкино лицо, то она увидела бы, как изменилось, как просияло оно в эту минуту.
– Ну, прощай, душа, спасибо за новость! – торопливо промолвил Гречка.
– Да куда ж ты, лиходей мой!.. И слова еще по душе не сказали! – укорила Катя.
– Некогда… Ужо поговорим, а теперь не время. Да слышь ты, – внезапно он прибавил, – не знаешь, когда ее хоронить будут?
– А сказывали, будто завтра хотят.
– Завтра?.. Гм… Эка штука… – раздумчиво процедил озабоченный Гречка. – Ну, да ладно, завтра, так завтра! Прощай!
И Катя слышала, как удалился он поспешными шагами.
* * *В голове Осипа Гречки горячо кипело множество мыслей, так что он, видимо, находился в лихорадочном состоянии.
«Старинный рубль… петровский – значит этта амператора Пётры-Первого, как сказывал Жиган, – размышлял он сам с собой. – Издавна в семействе хранился и в ладонке зашит… Да еще слезно приказывала в могилу положить с собою… Это фармазонские деньги – они! Беспременно они! Беспременно фармазонские! – решил арестант и еще жутче погрузился в свои думы. – Надо во что б то ни стало добыть эти деньги!.. Во что б то ни стало!.. В часовню забраться, нешто?.. Не заберешься: укараулят… Одна штука – бежать, – да бежать, как можно скорее!.. А как раздобудешься заветным рублем неразменным – господи, что за жизнь-то пойдет счастливая! – упоительно предался он мечтаньям: – Живи, ни о чем не тужи, ни о чем не заботься, одет, обут и пищия тебе тут всякая, и напиток хороший! Любо! Ух, как любо!.. Ажно дух захватывает!.. Фатеру хорошую найму, сударушка своя собственная будет – барином жить стану… И воровать уж не буду – незачем… Ни за что не буду, ни-ни, и детям закажу – экого богачества по весь век за глаза ведь хватит… На покое да на волюшке заживем тогда! Одно только скверно, черт побери, очинно уж скверно! – приостановился он в дальнейшем порыве: – Чтобы добыть-то их, эти фармазонские денежки, надо будет над мертвецом надругательство сделать… Иначе не достанутся, сказывал Жиган, то-ись никак не достанутся… Эх, доля наша, доля горемычная! Каково-то оно есть, это счастье людское – и за что нашему брату приходится черту запродать свою душу навеки, а даром и не добудешь этого счастья… Ну, да что ж такое? Запродать, так запродать! – решил он, после минуты раздумья. – Мне, что теперь, что после, по писанию – все едино пропадать ведь надо… За наши добрые дела, сказывают, будто на том свете в рай ко святым не пущают, а прямо в огненную реку волокут, – так, значит, это для нас все равно, что ничего, потому, и без того сволокли бы, потому, хоть и убегу, хоть и на воле буду, – а хлеб жевать надо, – ну, и, значит, беспременно воровать надо: без того уже нашему брату невозможно как-то, с волчьим видом ни в какую иную работу не примут. Тут уж лучше, коли пропадать – пропаду по крайности за счастье свое; по крайности узнаешь, каково таково это самое счастье на свете бывает!»
И Гречка окончательно уже решился.
LXIX
ПОБЕГ АРЕСТАНТОВ
«Жил-был на свете добрый молодец, а прозвание молодцу было Хмелинушка-бездельный», – рассказывал Кузьма Облако собравшейся вокруг него, по обычаю, кучке арестантов, когда Гречка вошел в эту камеру, непосредственно после своего решения о скором побеге. Он пришел сюда с целью окончательно сговорить себе подходящего товарища, которого он наметил уже гораздо раньше и недели за три до описанных происшествий успел даже раза два намекнуть ему о возможности побега. Гречка знал, что это человек решительный и предприимчивый, со стороны которого едва ли встретится отказ. Вошел он в камеру в начале седьмого, спустя около двух часов после смерти Бероевой.
«Задумал Хмелинушка жениться, крестьянским хлебом кормиться, – продолжал Облако. – Оженился Хмелинушка – жонка вышла неудачливая: где бы печь истопить да варева наварить, а она в гречку скакать, в конопли хорониться да с чужими парнями водиться. Задумал Хмелинушка нову тесову избу поставить – жить хозяином да господа славить. Поставил – пришел огонь, повыгнал Хмелинушку вон: погорела изба. Пошел Хмелинушка в поле – полоску боронить, на зиму хлебушки накопить.
Уродило яровое, да пришел град небесный, повыбил Хмелинушкину ржицу. Видит Хмелинушка, во всем ему незадача. Пошел Хмелинушка куда глаза глядят, а навстречу ему Горе идет, на клюку опираючись, над Хмелиною насмехаючись. Само Горе лыком подпоясано, а ноги мочалами изопутаны. Испужался Хмелина Горя безобразного, да в темные леса от него поскорей! Глядит – а Горе прежде его в темный лес зашло, навстречу идет да поклон отдает. Пуще того испужался Хмелинушка, бежать ударился, да и прибег в почестный пир христианский: нет места во пиру Хмелинушке, потому – Горе раньше зашло, да на его место уселось. Тут Хмелинушка от Горя – во царев кабак, а Горе встречает, уж и водку-пиво тащит, да востер булатный нож подает. Подружился Хмелинушка с Горем, брательски с ним побратался, и говорит ему Горе великое: «Дам тебе я, доброму молодцу, путь пространный, дорогу широкую, дам тебе я хоромину крепкую да теплую, дам тебе я хлеб да одежду богатую. Дорога моя – Володимирка, хоромина – сибирский острог, а хлеб да одежина – казенныи, не простые казенныи, а клейменыи, арестантскии».
– Это ровно, как в нашей тетраде списано, – заметил на это один арестантик из грамотных: – там тоже эдак про горе говорится:
Горе плачет и смеется,
Горе вьется вертеном,
Как осина горе гнется,
Горе ходит с топором.
– Что брат, хороша песня? – подмигнул Гречка одному арестанту, который третий месяц содержался в тюрьме по делу, грозящему неминучей каторгой.
– Одно слово – арестантская, – пробурчал вопрошаемый.
– А сказка? тоже, поди-ко, недурна?..
– Ништо себе, живет…
– Точно, брат, живет. Это твое верное слово. Только ты постой, ты сначала почувствуй, брат! – распространялся перед ним Гречка. – Это еще не сказка, – а только малая присказка, а сказка-то самая будет нам с тобой впереди, как вот в Конном трактире даром порцыю миног отпустят да клеймовой тройцой благословят, чтобы не потерялся и чтобы мать родная признала, значит, да вот как с железной музыкой, в браслетиках, прогуляться пошлют, – ну, это тогда точно что уж сказка будет!
Тот, с невкусным выражением в лице, почесал у себя за ухом.
– А вот я тебе сказку скажу – моя получше выйдет! – как-то двусмысленно предложил ему Гречка: – Пока что, и моя, авось, пригодится… Хочешь послушать, что ли?
– Болтай, пожалуй.
– Постой, кума, в Саксонии не бывала! – отшутился Гречка и совсем спокойно уселся подле избранного субъекта, по-видимому, намереваясь только праздное время убить в приятной компании да послушать, о чем тут люди гуторят.
Арестанты меж тем песню запели. Начал Филинов, а несколько голосов подтянули:
Вот так муж жену любил… –
выводил он веселые переливы, избоченясь и изображая разными ужимками и всею фигурою, как именно муж любил жену свою.
Уж он так ее любил –
Щепетненько[353] водил.
По морозу нагишом,
По крапиве босиком.
А жена его любила –
Щепетней того водила,
Щепетней того водила,
В тюрьме место откупила,
Откупила, снарядила –
Пятьдесят рублев дала.
Вот тебе, мол, муженек.
Вековечный уголок!
Не толки, не мели –
Только руку протяни,
Только руку протяни
Да… вспомяни,
Ты… вспомяни
И готовое прими!
Под шумок этой песни Гречка незаметно толкнул в бок избранного товарища и пересел с ним подале.