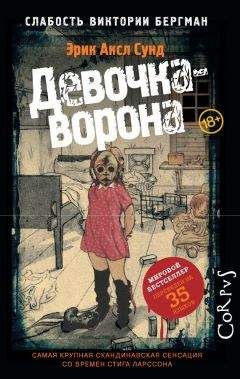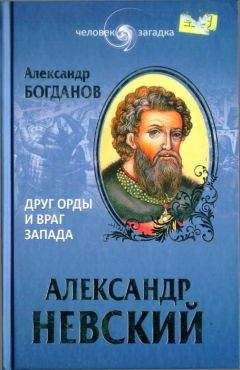Сергей Мосияш - Александр Невский
Александр радовался в душе, но вслух ничего не высказывал, боясь сглазить милых братцев.
Только уже в Орде, когда шли к ханскому дворцу, предупредил:
— Языки не распускайте. С ханом я стану говорить. Ваше дело поддакивать.
— Конечно, конечно, — поспешно согласился Ярослав. — Да я по-ихнему и не смыслю.
Но хан Улагчи с первых же слов смешал все их замыслы. Он был юн — еще и усы не пробивались у отрока, — и все время посматривал на темника, сидевшего неподалеку, которого князь видел впервые. Александр понял: темник этот — милостник великого хана и приставлен к Улагчи главным советником и воспитателем. И, как бы ни старался юный хан со свойственным юности гонором показать свою самостоятельность, Александру было ясно — он поет с чужого голоса.
Улагчи не дождался даже окончания церемонии вручения подарков, крикнул звонко и требовательно:
— Который из вас Андрей?
— Вот он, — указал Александр на брата и шепнул тому: — Тебя спрашивает. Не зарвись.
Андрей выступил на полшага вперед. Хан запальчиво крикнул:
— Почему бежал от нас? Что делал у свеев? На нас союз ковал?
Андрей ничего не понял — все перезабыл, что знал, но догадался, что хан им недоволен. Промямлил что-то невразумительное. К нему подскочил толмач, но, видимо, слов не разобрал.
— Я уже наказал его, хан, — сказал Александр, вставая рядом с братом. — Не за союзом он бегал к свеям, с испугу.
— Почему он сам не говорит? — сверкнул глазами юный хан.
— Он не ведает языка твоего.
— Ведать должен, — стукнул Улагчи кулаком по подлокотнику. — Народ наш великий и язык великий. Ведать должен.
— Хорошо, я научу его говорить на твоем языке, хан, — пообещал Александр, дабы хоть этим умерить пыл царственного отрока. — Обязательно.
— Научи, Александр, — более спокойно сказал Улагчи. — А чтоб тебе сподручней учить было, посади его в Суздале, пусть сидит под боком у тебя.
— Хорошо, хан. Он будет сидеть в Суздале.
Андрей по тону разговора понял, что Александр как-то успокоил хана, тот заговорил уже обычным голосом, без крика и гнева. «Слава богу, кажись, пронесло, — подумал Андрей. — Явился б один сюда, съел бы меня этот змееныш с потрохами, истинный Христос, съел бы».
Они думали, — главная беда миновала, но ошиблись. Все трое ошиблись.
Задав несколько пустяковых вопросов Александру — о дороге, охоте, выноске соколов, Упагчи неожиданно спросил:
— А Новгород твой город?
— Мой, — отвечал Александр, чутьем угадав вдруг — к худу беседа клонится. К какому — неведомо, но к худу.
— Вот и хорошо, — сказал юный хан, покосившись на темника. — Пора и его народу исчисление сделать, да и Пскову тоже. Пошлю с тобой численников, помогай им. Ежели их там обидят, с тебя спрошу, Александр.
«Вот она, главная беда. Новгород — не Владимир, без крамолы и крови не обойдется».
— Что ж молчишь, Александр? — перебил мысли князя хан. — Или не нравится мое решение?
— Не нравится, — признался Александр. — А что? Буду исполнять.
— Молодец, что правду говоришь, — похвалил Улагчи. — Коню плеть тоже не нравится, а он ее хорошо слушается.
Хан впервые засмеялся, довольный сказанным: и похвалил русского князя, и унизил. Александр и виду не подал, что насмешка уязвила его. Знал: яви он вид обиженного, того более начнет куражиться Улагчи.
Невеселым было их возвращение от хана в свой шатер. У Андрея не то от пережитого, не то от обиды тряслись губы:
— Это что ж выходит-то? На всю Русь хомут надевают, а нам, князьям, кнуты — да в возницы. Так?
Он заглядывал старшему брату в глаза, ища ответа или хотя бы немого сочувствия, но Александр хмурился, молчал. Он не хуже Андрея понимал, какие унижения ждут впереди отчину, но не видел никакого выхода впереди ни в близком, ни в далеком времени. А Андрей не унимался:
— Вон Даниил Романович не испугался их. И копье не одно уж сломал с ними. И домогательства их отвергает.
— Даниил за тридевять земель от них, а мы обок. Не сравнивай, — сказал спокойно Александр. — Ежели стрела на излете, она и сорочку не пробьет, а вблизи и через кожух уязвит. Не сравнивай, Андрей. И впредь не бесись, силы не имея. Отныне главное для нас — Русь не обезлюдить. Слышь? Дабы было с кого возродиться ей и в силу войти. А сие придет, и в это верю я и сим живу. И вам велю.
— Но стыдно ж, стыдно, Александр, ланиты огнем горят от стыда.
— Умойся снегом, остынут, — ответил холодно Александр. — Впредь на носу заруби: перечить мне станешь или людей на татар звать, лишу стола, а то и живота. И на родство не посмотрю.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ТУЖЕ
XXXI
ДОЛГИЕ РУКИ ОРДЫ
Нелегкая доля выпала Елевферию Сбыславичу — сообщить новгородскому вече со степени о решении хана золотоордынского переписать Новгород, обложить десятиной и забрать тамгу — торговую пошлину — себе.
Вечевая площадь так дружно и зычно взревела, что стаи галок, обсевшие церковные купола, вмиг слетели и, даже не кружась, махнули на Софийскую сторону.
— Умрем за святую Софию-у-у! — вопили одни чуть не хором.
— А этого хан не хо-хочет! — потрясали другие изготовленными тут же кукишами.
Елевферию долго рта раскрыть не давали. Посадник Михаил Степанович, находившийся тоже на степени, пытался утихомирить толпу, но народ, напротив, распалялся того более. Самые ближние начали еще и кулаками по степени дубасить, словно это и был сам хан.
Елевферий с посадником переглянулись.
— Пусть проорутся, — сказал Михаил Степанович.
Елевферий не услышал — по движению губ догадался. Кивнул головой: пусть.
У толпы новгородской, когда она едина становилась в порыве своем, тут же свойство дивное являлось — все напоперек управителям творить. Увидев, что умолк посадник и Елевферий сник, толпа мало-помалу успокаиваться стала.
Елевферий взглянул на посадника вопросительно: начинать?
Тот одним взглядом ответил: погоди, не спеши.
Толпе, как рою встревоженному, и это худо.
— Чего в гляделки бавитесь? Отвечайте народу!
— Господа новгородцы, — начал громко Михаил Степанович. — Как бы дружно и звонко мы ни вопили, хана этим не испугаем, разве что ворон на крыло поднимем. Ежели мы откажемся платить гривнами, то может так случиться, что станем платить кровью за наше непослушание. И кровью немалой. Али мало ее пролито нами на заходе?
Толпа слушала вполуха, бурлила сердито, и ясно было — не примет ханскую волю, отвергнет. Татарским численникам, приехавшим с Елевферием и сидящим сейчас на Городище, ничего не останется, как уехать несолоно хлебавши. А великий князь в своей грамоте предупредил посадника:
«… Численников ордынских без числа отпускать нельзя, ибо по уходе их ханская рать пожалует и тогда Новеграду несдобровать. Пожалеют десятину — отдадут и животы свои, как уж было сие на Руси не однажды. А посему, Михаила Степанович, уповаю на твою руку и власть твердую. Все примени, но число дай, пусть не остановят тебя ни поруб, ни виселица».
Прочел посадник грамоту, почесал в затылке, подумал:
«На пергаменте-то число легко просить, а вот как на степени?» А Елевферия спросил:
— Чего ж сам-то Ярославич не приехал?
— Где-то в Муроме, кажись, численников перебили, побежал с дружиной разбираться.
— Ох, кабы у нас тож не стряслось. Народишко на татар вельми зол. Упрутся черные, помяни мое слово.
И «черные» — мизинные уперлись.
— Нет числа поганым! — орали, бушуя вкруг степени.
— Мы не бараны — считаться!
— Что нам князь Александр?! Наш князь — Василий! А Александр пусть татарам хвосты лижет.
— Верна-а! Али мы не вольны в князьях?!
Так ничем и закончилось вече. Впрочем, приговорили, да не то, что посаднику было надобно, — числа татарам не давать. Численников же отпустить с богом.
— Все без пользы, все без пользы, — вздыхал Елевферий. — Что ж численникам говорить? А?
— Ничего, польза есть, — зло щурился посадник. — Самых горластых я высмотрел. Ныне ж ночью в поруб покидаю, собак.
— Не хуже ль будет, Михаил Степанович? — усомнился Елевферий.
— Не хуже. Великий князь в грамоте то же велел, вплоть до виселицы.
Посадник и впрямь время на степени не терял, зорким оком своим высмотрел нескольких горлопанов. Это кожемяка Сысой Нездылов, братья Семен и Нежата Емины и еще кое-кто… Все они на замете у посадника. Ныне ж ночью успокоены будут.
С дюжину добрых молодцев подобрал Михаил Степанович из людей, ему преданных, кто в родстве с ним или в холопстве у него. Сам же и возглавил отряд.
Дабы ворота сами хозяева открывали, придумали ложную бересту с вестью: Сысою, мол, от родителя с выселок, Еминым — от сестры из волости.