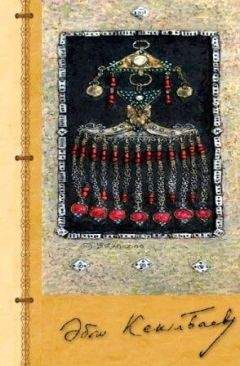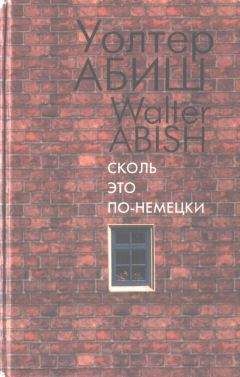Абиш Кекилбаев - Плеяды – созвездие надежды
— Потому, ясное дело, Зердебай и ног под собой от радости не чует. И то сказать, как же ему не радоваться?
Люди все теснее и теснее обступали юрту, где принимали жениха. Женщины чуть ли не вовнутрь готовы были влезть, мешали, путались под ногами джигитов, обслуживавших гостей.
Родственники Зердебая, поначалу державшиеся скромно, теперь стали покрикивать на любопытных:
— Эй, баба, посторонись, а не то оболью сурпой твой подол.
— Эй ты, трещотка, не мешай, не стой на пути, я ведь могу насыпать тебе за пазуху углей из очага!
Никто не обижался на грубоватые шутки: зрелище дороже любых окриков. К тому же джигитам и правда нелегко приходилось: носились от очагов в юрты и обратно как ошалелые. Зеваки пропускали их, освобождая дорогу.
— Который же из приезжих женихом будет, а? — вытягивали они шеи.
На торе сидят вроде бы все молодые, кроме одного, который с темной бородой.
— Может, вон тот, с толстой шеей?
— Уж больно страшен он для жениха. Глаза горят, как у бодливого быка.
Не-е-е-т, похоже, вон тот вон красавчик с длинными ресницами. Держится скромно, вежливо. Хорош, хорош, под стать нашей Торгын.
Сергей Костюков тоже пытался угадать, кому же достанется такое сокровище, как Торгын. Тоже высматривал жениха. Аулчане оттеснили Сергея от юрты, и он побрел в печали по тропинке в посольство.
Толпа не редела и на следующий день. Изо всех юрт лились звуки домбры, густые голоса джигитов и серебристые голоса девушек и молодух выводили песни. До вечера не утихала музыка, смех и шутки.
С наступлением темноты люди разошлись по домам. Праздничные юрты опустели. Лишь звонкий смех молодух раздавался время от времени да легкий стук их каблучков, когда они перебегали из одной юрты в другую, что-то на ходу говоря друг другу.
Наступал самый заветный и главный момент — ночь сокровенной первой встречи жениха и невесты. Если они придутся друг другу по сердцу, смешливые молодки среди ночи побегут просить суюнши у матери невесты. После этого начнется самое интересное. Соберутся все женщины, девушки и юноши и совершат обряд обирания жениха. Все, что им понравится, с него снимут или отберут. На следующий день пойдет пир горой — большой свадебный той для всех. Потому ждут, затаясь, все аулчане, когда же перевалит за полночь, когда раздается крик «Суюнши! Суюнши!»
Длинна осенняя ночь. Долго приходится ждать, ворочаться в постели.
— Эх, будь проклят твой отец! — прорезал тишину отчаянный вопль. — Подсунул мне вместо лепешки надкушенный баурсак! Опоганили меня, наплевали в душу!
Это был позор. Неслыханный позор. Аул притих, притаился в ожидании чего-то недоброго.
А причитания неслись, нарастали, все более походили на бычий рев.
— В землю живым вогнала! Чтоб ты в могиле ревела!
О-о-о, моя погубленная надежда! О-о-о-о-о, какая расплата за мою давнюю верность!
Жених причитал, будто убивался по умершему отцу. Он произносил слова четко, раздельно, чтобы все их услышали! В гробовой тишине его голос был слышен неправдоподобно ясно, и оттого казалось особенно жутким то, что произошло.
С ним сплелся еще один голос, голос человека, смертельно раненного в самое сердце:
— Проклятье! О аллах, за что ты покарал меня так жестоко? Чем я не угодил тебе? — рыдал Зердебай.
Вслед за этим полетели по степи дикие испуганные возгласы:
— Ойбай, ойбай! Держите его! Держите! Убьет ведь, зарубит!
— Пустите, пустите меня! Я ее убью и себя порешу! Пусти-и-и-ите! Ну, бесстыжая, ну же!
Мужчины держали Зердебая, не пускали его в юрту, где находились его дочь и ее жених.
Вопли, крики, рыдания, плач не прекращались до утра. Ни один человек в ауле не сомкнул глаз.
С восходом солнца жених и его свита покинули опозоренный аул.
Они ускакали, даже не оглянувшись. Но почему-то они не были похожи на людей, которые страдают от позора, а, напротив, казалось, были рады чему-то, словно испытывали удовлетворение. Абулхаира обожгла страшная догадка.
Родные кое-как успокоили Зердебая. Он лежал лицом к стенке, отвернувшись от всего мира. Слово — великий исцелитель, и чем больше добрых слов выльется на горь кую, застывшую, словно черный камень, душу, тем легче ей становится. Родственники не жалели слов, в глазах мастера показались слезы и потекли, потекли безудержно по щекам, принося какое-то облегчение.
Они порешили найти злодея, растоптавшего ангельскую душу. Заставить его признать свою вину и жениться на бедняжке. Все родичи Зердебая дали клятву найти виновника.
На закате они покинули ханский аул. Миновал день, тяжелый, как обрушившаяся на плечи гора. Прошел и второй. На третий день ранним утром около юрты хана сошли с коней тридцать всадников. Нерешительно, опустив головы и плечи, перешагнули ее порог.
Речь повел Конысбай. Сын покойного Айтеке-бия. Того самого Айтеке, который его, Абулхаира, когда-то заметил и благословил. В движениях и словах бия Конысбая были особая внушительность и весомость. Стало быть, догадался хан, гости приехали по очень серьезному делу.
— Алдияр, мы явились не с благой вестью. Явились, чтобы отвратить страшное событие, которое нависло и над вами и над нами. В несчастье дочери Зердебая люди обвиняют русское посольство. Какой-то русский парень часто наведывался в юрту Зердебая, люди видели это много раз. Корят и тебя за то, что позволил кафиру поднять подол нашей девушки, не пресек, как положено мусульманину, это безобразие. Мы решили предупредить тебя по-братски. — Конысбай говорил медленно, напевно, будто
вторил тихому напеву домбры. — Пришли дать тебе совет. Есть три способа избавиться от небывалого позора. Первый — ты всенародно покаешься: «Я встретил посольство с чистым сердцем, чистым дастарханом, но кафиры есть кафиры!» И казнишь парня. Остальных отправишь домой. Второй — всенародно отречешься от русского посольства, поклянешься, что ничего не ведал об этом преступлении неверных. И отдашь их на суд разгневанному народу. Третий — дашь клятву, что этот самый парень ни в чем не виноват. На красной насыпи, на святыне нашей, где покоится прах предков, дашь клятву.
Конысбай умолк. Абулхаир прочистил горло и произнес хриплым, сдавленным голосом:
— Ни Зердебаю, ни его дочери, готов поклясться, я никогда не желал зла.
— У нас и мысли такой не было! — раздалось ему в ответ.
— Утверждать, что бедного слепого мотылька толкнули в огонь русские, не могу. И они — живые души, хоть и не мусульмане. Не хочу брать на себя грех, не будучи убежденным в их вине!
— Ясное дело, убедиться нужно!
— Не готов я сейчас и к клятве на могиле предков.
— Не торопись, подумай, взвесь. Потом сообщишь нам свое решение. Но помни: клясться будешь ханством своим, скотом своим и жизнью своей. Условия клятвы суровы и беспощадны! Нарушить их — значит вызвать гнев духов наших святых предков. — Конысбай перевел дыхание, помолчал и, поглядев прямо в лицо Абулхаиру, сказал:
— Помни, клясться тебе придется ханской короной — раз, любимым скакуном — два, несовершеннолетним сыном самого уважаемого и почитаемого народом человека... Горе, невыносимая потеря, которые будут мучить не только тебя, но и весь народ. Однако знай, своими детьми, а также детьми Букенбая и Есета ты клясться не имеешь права... Думай, крепко думай!
Сочувственно вздыхая, бросая на хана жалостливые взгляды, тридцать биев один за другим покинули юрту Абулхаира.
Почему они так тихо, так неслышно закрыли дверь, почему были так сдержанны — ведь оскорблены духи предков! Опозорен целый род! Не колотили кулаками и камчами по земле, не обвиняли его в том, что он запятнал, замарал самое святое! Стали такими добрыми и всепрощающими. Почему, ойбай, почему, почему?! Абулхаир сам начал бить кулаками по ковру, на котором сидел.
Известно, почему! Кто унижен сейчас более, чем он, кто несчастнее его? Ни один степняк не станет вести себя надменно и крикливо с человеком, и без того несчастным и униженным! Зачем добивать и без того убитого горем, повергнутого в прах человека? Если хочешь заслужить, получить милость у казахов, будь таким вот несчастным. Они завидуют, кривятся, косятся лишь на человека, который хоть чуточку богаче и знатнее остальных. Зато как всепрощающи, как милостивы, когда дело касается поверженных и сломленных. И эти его гости были мягкими, как шелк, так как отныне он в их глазах — последний человек. Никто и ничто. Не утихомирить, не успокоить духов предков или смыть пятно позора с целого племени им важно. Им куда важнее повалить хана Абулхаира в грязь, замарать его! Навсегда оставить его в этой грязи! Потому они и поставили три условия... Условия, каждое из которых по своим последствиям может быть для него, Абухаир-хана, поистине ужасным...
Прикажешь казнить Сартайлака — оборвешь отношения с русским государством, отдашь с таким непомерным трудом налаженное дело какому-нибудь пройдохе из рода Жадика... Отречешься от русского посольства — тем более! Тотчас же найдутся «сердобольные», которые возьмут Тевкелева и его людей под свою защиту и поспешат доложить об этом царице. Принесешь клятву... Как он может поручиться за мужчин, столько времени живущих без женщин? Немая девушка не может назвать своего обидчика. «Сдается мне, его надо искать среди своих. Странная свадьба... За всем этим я чувствую руку Батыра и Барака. Но как это доказать? А не пойман — не вор. Пусть они, враги мои, возьмут мою жизнь! Все одно — позор навечно покроет мое имя в памяти людской! И как я вообще могу взять на себя вину за смерть безгрешного ребенка? Своего или, особенно, чужого?»