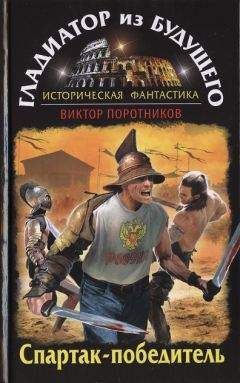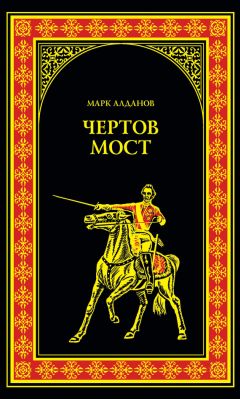Марк Алданов - Чертов мост (сборник)
Рибопьер тотчас почувствовал недоброжелательство Штааля и насторожился. Других гостей еще не было, и им приходилось поневоле оставаться вместе. Медленно гуляя по зале, Штааль тоном хозяина и знатока показывал ее главные достопримечательности. Хозяйский тон его теперь раздражал Рибопьера. «Экая, подумаешь, честь, что он свой человек у Александра Андреевича, даже если не врет и в самом деле свой человек…» — думал он (Безбородко, несмотря на его первый в империи пост и огромное богатство, никому не внушал особенного преклонения). Он сбоку смотрел на Штааля и с повышенной насмешливостью, свойственной семнадцатилетним мальчикам, старался найти в нем что-либо такое, о чем можно было бы пустить забавный и злой рассказ. Картины совершенно не интересовали Рибопьера: как все очень молодые люди, он ничего не понимал в искусстве — ему даже были неизвестны имена знаменитых художников, которые называл Штааль (сам Штааль только и знал, что их имена). Но в конце зала, у двери, ведущей во внутренние покои, Рибопьер вдруг залился звонким хохотом при виде мраморной статуи Эрота, обнесенной решеткой из медных стрел.
— Так об этой-то статуе Гаврила Романович написал «Крезова Эрота»! — с трудом выговорил он наконец.
Стихотворение, в котором Державин, недолюбливавший Безбородко, высмеял его немощь, пользовалось большой популярностью у молодежи. Штааль тотчас продекламировал:
…Что, сказал я, так слезами
Льется сей крылатый бог?
Иль толикими стрелами
В сердце чье попасть не мог?
Иль его бессилен пламень?
Тщетен ток опасных слез?
Ах! Нашла коса на камень:
Знать, любить не может Крез.
Рибопьер, схватившись руками за приглаженные виски и сжимая их так, чтобы не расстроить прически, заливался неудержимым смехом. Он лишь очень недавно узнал женщин. То, о чем говорилось в стихах, теперь составляло главное содержание его жизни (ему было на балах трудно танцевать от волнения), и именно поэтому его так смешили — своей невероятностью — стихи Державина.
— «Знать, любить… не может… Крез»… — задыхаясь от смеха, повторил он.
Штааль сделал испуганный жест: дверь из внутренних покоев бесшумно открылась, и в залу вошел, тяжело опираясь на палку, сгорбившись плечами и запрокидывая назад голову, Александр Андреевич в черном кафтане, в епанче из черных кружев. Измученный, больной вид князя, его распухшее, от черного воротника особенно бледное лицо сильнее прежнего поразили Штааля.
— Ты это что, из «Крезова Эрота» читаешь? — спросил канцлер остолбеневшего от смущения Рибопьера. — Славные стишки!..
Он сказал это как бы равнодушным тоном, но по сердитому выражению его глаз Штааль почувствовал, что едва ли князь находит стишки славными.
— Славные стишки… — повторил Александр Андреевич. — Хоть и то сказать: экой Геркулес нашелся Гаврила Романович! Из самого песок сыплется — и туда же!.. А ты, голубчик, поживи с мое, молоко на губах подсохнет — тогда посмеешься… Я, может, на своем веку больше женщин знал, чем тебе случалось д… (Штааль весело рассмеялся, услышав живописное выражение, которым Александр Андреевич наградил Рибопьера, сильно покрасневшего от этих слов). Да… Стар пестряк, да уха сладка…
Он будто ласково потрепал Рибопьера по спине и пошел, опираясь на палку, в примыкавшую к залу Гваренги голубую гостиную, в которой должен был принимать наиболее почетных гостей. Рибопьер прикрыл ладонью рот, выражая досаду, что так смутил старика.
5
Появились новые гости, и Рибопьер, общий любимец, тотчас к ним присоединился. Штааль сделал вид, что и сам как раз хотел от него отойти, так как он ему надоел. Но среди новых гостей у него не оказалось знакомых. С равнодушным видом он бродил по наполнявшемуся залу, небрежно и неслышно напевая «Звук унылой фортепьяна»… Более старые гости проходили в голубую гостиную, к Александру Андреевичу, который по праву больного не выходил из этой комнаты и не вставал с кресла. Самых почетных гостей еще, впрочем, не было: они должны были явиться в мальтийской свите императора. Штааль вышел в галерею над парадной лестницей. Оттуда наблюдали съезд гости, очевидно тоже неуютно чувствовавшие себя в зале и потому иронически настроенные. Съезд был в разгаре. Небольшую сенсацию вызвал приезд Лопухиных. Штааль впервые видел вблизи фаворитку. Ее лицо удивило его обыкновенностью. «Ничего особенного… Только глаза хороши…» Ему почему-то казалось, что император мог полюбить лишь первую красавицу в России. Через минуту после того как Лопухины вошли в зал Гваренги, оркестр заиграл вальс. Из галереи кое-кто устремился в зал. Большинство стоявших над лестницей осталось, вполголоса разговаривая о Лопухиной. Одни тоже разочарованно спрашивали, что в ней нашел государь. Другие сомневались, действительно ли она любовница Павла Петровича; он всячески подчеркивал просто дружеский характер их отношений и даже, по слухам, подыскивал для нее жениха. Третьи говорили об огромном влиянии фаворитки: новый линейный корабль назван «Благодать» в ее честь, так как имя Анна значит благодать на каком-то языке — не то по-гречески, не то по-еврейски. Строившийся дворец государя у Летнего сада приказано выкрасить в цвет перчаток Анны Петровны… Говорили о ней без злобы: дам среди стоявших на галерее не было, а между мужчинами у этой семнадцатилетней миловидной девочки еще не было врагов. Только один пожилой малоросс-полковник изумленно кивал головою, услышав, что Анна Петровна стоит за войну с Францией.
В галерее показался Иванчук, по-прежнему взволнованный, но уже степенный, одетый по последней моде. Он хотел убедиться в том, что на лестнице все обстоит благополучно. Увидев холодно отвернувшегося от его взгляда Штааля, Иванчук поспешно к нему подошел.
— Прости, брат, что тогда с тобою не задержался. Голова идет кругом, — сказал он, пожимая руку Штаалю. — Очень ты хорош в мундире…
Штааль, смягченный, пожал плечами.
— Ты, надеюсь, ничего нынче не ел? Ужин, брат, будет неизобразимый! — таинственно сказал Иванчук. — Да вот не хочешь ли пойти со мной?
Он взял Штааля под руку и повел его из залы. В соседних с уже открытыми залами помещениях люди накрывали столы дорогими скатертями — под ужин на тысячу человек были отведены в доме все три столовые, картинная галерея и еще несколько комнат. Иванчук везде все оглядывал хозяйским взглядом — по-видимому, не в первый раз — и отдавал распоряжения, которые прислуга выслушивала молча и угрюмо. Особенно долго задержался он в малой столовой, где должны были ужинать император, великие князья и княгини, эрцгерцог, принцы Мекленбургские и человек двадцать высших сановников. В этой особенно роскошно обставленной комнате, странно освещенной стеклянными шарами, столы были мраморные, на стульях черного дерева лежали одинаковые парчовые подушки, а посуда вся была из чистого золота. Распоряжался в малой столовой мажордом князя, седой итальянец в черном шелковом фраке, в чулках и при шпаге. Он недоброжелательно посмотрел на вошедших, видимо, хотел что-то сказать, но сдержался и, отвернувшись, продолжал отдавать лакеям распоряжения на ломаном русском языке. Иванчук приблизился к креслу императора, внимательно его осмотрел, сдул какую-то пушинку и поправил перед креслом золотое плато, изображавшее рог изобилия. Затем столь же заботливо осмотрел и понюхал, жмурясь, разложенное на мозаичных столиках по углам душистое куренье. Все было в полном порядке. Иванчук, однако, неодобрительно качал головой (мажордом смотрел на него с худо скрываемой ненавистью). Штааль хотел взять со стола меню.
— Я и так тебе все скажу, — сказал Иванчук, с беспокойством хватая его за руку. — Будет шестьдесят три блюда… У Строганова бывало и больше, но мы выбрали шестьдесят три по числу букв: «Его величество Павел Петрович, император и самодержец Всероссийский». По-моему, недурная мысль, а? Завадовский обещал за ужином обратить на это внимание его величества — не забыл бы он только…
— Да разве кто может съесть шестьдесят три блюда? — с удивлением спросил Штааль.
— Отчего же? Гость до обеда соловей, а после обеда воробей… — ответил Иванчук. — Иной, пожалуй, и перышком рад бы воспользоваться, в горле пощекотать: у Строганова всегда дают гостям перышки… Но я не велел — по-моему, это гадость… Питухи — другое дело: для них растоплена баня и поставлена паюсная икра. Могут искупаться в бане, а там опять пить с новой силой… А я тебе скажу, что нынче надо есть. Из закусок ты возьми щеки селедок — изумительная, братец мой, вещь, но морока же, доложу тебе: на одну тарелку идет больше тысячи сельдей… Из супов — кавардак… Или нет, пожалуй, возьми уху: очень хороша будет уха — из кронштадтских ершей. Пирожки до одного бесподобные — непременно отведай все восемь сортов: «бодрые», «нескучные», «повтори», «с рыбкой-с», «с живыми картинами», «просто прелесть», «мал золотник да дорог», «что в рот, то спасибо», — без запинки перечислил Иванчук. — Затем из серьезных блюд рекомендую roti de l’Imperatrice [319]. Это, брат, тоже сложная штука: жаворонка начиняют оливками и кладут в перепелку, понимаешь? Потом перепелку кладут в куропатку, куропатку — в фазана, фазана — в каплуна, каплуна — в поросенка, а поросенка жарят особым манером на гвоздике… Смешение вкусов, аром!.. Описать нельзя — сам отведаешь… Но лучше всего будет, пожалуй, свиная печенка, только уж извини, брат, ты в картинной ужинаешь, а ее в одну эту комнату и подадут: Павла Петровича любимое блюдо, — я царскому повару за секрет пятьдесят рублей дал… Постой!.. — Он посмотрел на часы. — Ну да, сейчас будут резать гречанку.