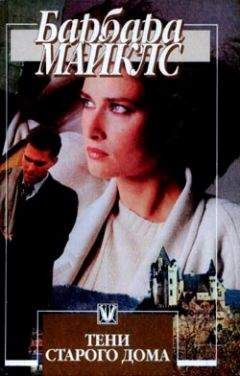Эфраим Баух - Ницше и нимфы
При всей ее недалекости, пальчики у нее цепкие и вкрадчивые, уж я-то знаю это с детских лет. Она меня умертвит, как лягушку, выставив «безумным философом» для публичных зрелищ.
Я невольно подслушал, как она с важностью интеллектуала отговаривала Маму от намерения сжечь мои некоторые сочинения, мол, творения гения принадлежат к сокровищам всего мира, а не только семьи.
А пока я пребываю в блаженном ощущении незнания времени, призрачно и примитивно прозревая то, что должно свершиться в грядущем.
А ведь я совершил гениальный творческий прорыв, стоя абсолютно нагим, и потому непонятым, часто невидимым, еще чаще — ненавидимым, посреди моего века сплошной бездарности — во всех своих средствах и проявлениях. Раньше, внутренне ощущая надвигающееся безумие, я терял сознание и пребывал в бессознательном блаженстве, в стерильной чистоте сумрачного леса у сумрачных вод — в первобытной легкости души и освобожденного от всякой мысли разума. Это было воистину неземное блаженство.
Я приходил в себя, разбитый, распростертый и растертый в прах, со страшной головной болью, позывами к рвоте, невозможностью издать хотя бы звук. И мне необходимо было время, чтобы накопить силы у плотины, перекрывающей застоявшийся вал мыслей, среди которых рассыпались вспышками в висках искры гения.
И я с болью и рвотой прорывал эту плотину.
Теперь же я сравнительно спокойно — времени у меня достаточно — перехожу грань от разума к безумию, сохраняя ясность мысли, без всяких болезненных ощущений. И врачи, удивленно переглядываясь, озадаченно качают кочанами своих рано лысеющих голов.
Я здоров в полном смысле этого слова, только мой гений обрел новые пространства, которые я лишь осваиваю и обретаюсь в них с комфортом.
Эти, никем еще до меня не исследованные, области ограждены, подобно высокому, хотя и прозрачному, призрачному забору — обетом молчания.
Была речь — картечь, затем перешла в течь и совсем иссякла.
За этим забором, как во сне, тянется, насколько хватает глаз, пустыня, заполненная массой немигающих человеческих глаз, тупо вглядывающихся в меня, в собственное бессмысленное будущее, и непонятно, кто из нас нормален, а кто безумен.
Преступление мое в том, что я своей философией тщился разбудить в них ум, побудить к добрым чувствам. Но тупость и корысть разбудили в них вирусы ненависти и жажду убийства себе подобного.
И ныне я озираю эту массу холодным взглядом кающегося убийцы.
И обет молчания открывает мне с ножевой ясностью надвигающееся катастрофой новое столетие. Потеряв чувство времени, я лишь догадываюсь по бессмысленному рёву толп и фейерверкам, что приближается конец моего века — Fin de Siecle.
Меня объемлет мир иной — мир безмолвия. Он тих. Для него чужды все еще различаемые с трудом, сквозь слепоту, лица и вещи, окружающие меня.
Улицы Наумбурга пустынны — вещь обычная в прорехах Истории, на пустырях Времени.
А книги мои — живая хватка аналогий.
Но самое страшное, что в последнее время мне не хватает воздуха дышать. Я знаю, это моя Судьба шлет мне последний ультиматум.
Ночью приснилась мне веселая птичка-вертихвостка, часто посещавшая меня в окне палаты. Теперь она обернулась птицей Судьбы из темных лежбищ смерти. И что мне с того, что в любой точке Земли миф опережает реальность.
Эпистолярное русло души
Обет молчания это — долгое прощание.
Само же прощание это, по сути, прощение.
Есть такое вовсе неизученное понятие — молчун.
Молчун — это целая философия со своей психологией, религией, духом.
Молчун отменяет законы разума — становится Ангелом безумия, таящим в себе огромный мир — темный, подвальный. Зажгите слабую лучину, и вы увидите в этой мгле столько потайного величия, что этот шумный ослепляющий мир покажется с пятачок, подобно байкам Нового Завета, упорно цепляющимся за великие руины Ветхого Завета.
Молчун требует медленно — времени у меня вдосталь — обозревать всю мою прошедшую жизнь в качестве режиссера и зрителя вольно или невольно выстроенного мной спектакля.
Всё, что составляет мою жизнь, заложено в меня с рождения, но особенно резко и угрожающе обозначилось в судьбоносном — если оглянуться назад — тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Эти три замкнутые в себе восьмерки несли меня по своим кругам, как загнанную лошадь, впряженную в упряжь безысходности.
Я еще не могу разобраться в том, блаженное ли это чувство — в сумеречном покое обета молчания вспоминать то, что выходило из-под моего пера в письме Францу Овербеку в тот прекрасный апрельский день, четырнадцатого числа восемьдесят седьмого, в благословенном Лаго Маджоре, явно не совпадавший с бурей в моей душе.
Мне, вымученному и вымоченному в уксусе одиночества, оказывается — только подумать — не хватало этого одиночества. Необходима была мне еще большая изоляция, дающая возможность углубиться в самые подземные пласты разума. Это меня самого пугает, но без этого мне просто не стоит жить.
Единственное спасение в работе. Я должен заново отредактировать мои сочинения в предчувствии моего ухода из жизни, который я ощущаю всеми фибрами души.
Я с достаточной скрупулезностью изучил все, что сегодня создается в европейской философии и литературе. Моя философская позиция, несомненно, самая независимая, истинно является наследницей нескольких тысячелетий. И хотя я далеко не уверен, что современная Европа поймет и оценит мой гений, передать мои творения следующим поколениям я должен в лучшем виде.
Хотя, честно признаться, мои надежды на то, что меня поймут будущие поколения, вызывают у самого меня большие сомнения. Более того, я не могу избавиться от мысли, что во внешнем мире ничего не изменится в ближайшие годы, а, возможно, и никогда.
Суета сует, сказал Экклезиаст
Поток отправляемых мною писем был стремлением прорвать невыносимое одиночество эпистолярным путем. Я вижу в этом некую приближенную форму обета молчания. Слияние с безмолвием белого листа бумаги, отсутствие встречи лицом к лицу с адресатом и насилия голосовых связок, лечит душу блаженством дистанции.
Я никогда не считал, сколько написал писем, быть может, несколько тысяч. Выходит, незаметно для самого меня писалась книга моей жизни, самая искренняя и адекватная — от заглавия и до последней буквы, являющаяся спонтанной, сиюминутной реакцией на возникающее чувство, мысль, обстоятельства, без никакой последующей интерпретации, обдумывания, правки.
Часть писем я, все же, правил, отмечая, что это черновик, но и это действие рождалось спонтанно, из понимания, что текст недостаточно вразумителен, а вовсе не из желания отредактировать мысль.
Вероятно, все-таки, во мне таилась подспудная надежда, что в будущем кто-либо, будь он моим последователем или отрицателем, соберет воедино все мои письма.
У меня же такое желание не возникало, ибо письма эти были духовным хлебом, который я отпускал по водам, согласно первому стиху одиннадцатой главы Книги Экклезиаста, чтобы они вернулись и были найдены мной во спасение. Они утекали водой моей жизни в мир, безудержно пробивая внутренние плотины моей души, ее комплексов, стеснительности, неуверенности в себе самом, оборачивающиеся, вовсе мне не присущим, высокомерием. В письмах я пытался, по мере моих сил и в болезненном стремлении к искренности, изжить эти запруды и плотины.
Письма — это беззвучные, соревнующиеся с вечностью, свидетели прожитой жизни, феномены безмолвия, экспонаты в музее «Обета молчания». Ничего это не добавляет к финалу моей жизни, возвращая к сказанному Экклезиастом в седьмом стихе первой главы — «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».
Быть может, лишь в грядущем, тот, кто будет одержим желанием добраться до истинной сущности моей жизни, поймет, что сделать это можно, лишь собрав поток моих писем.
Течение их неуловимо до конца, но это — лучшее пособие к раскрытию загадок моей жизни, которая и для меня самого была далеко не до конца разгаданной.
К примеру, разыгрывая про себя тип ненавистника морали, я остолбенел, увидев в этот миг свою физиономию, в подвернувшемся по пути зеркале витрины магазина на одной из улиц Турина, скалящейся, словно из меня вырвалось на белый свет тщательно до сих пор скрываемое мурло существа не от мира сего.
Это было подобно разрешению от бремени уродцем. Я бы разразился горьким смехом, позволяющим забыть все мои горести, но изо всех сил сдержался, чтобы вовсе не напугать прохожих или прошедших мимо меня полицейских, которые могли меня принять за умалишенного.
Но с кем я могу поделиться тревогой за мое состояние в этом городе, где никто даже не догадывается, что я — пророк Рока?