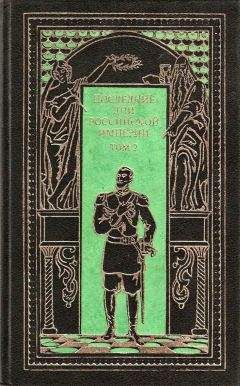Петр Краснов - Последние дни Российской империи. Том 3
Молитва и музыка утишали душевную боль Полежаева. За роялем, в холодной гостиной, на память играл Полежаев целые оперы и оперетки, пел старые песни, фантазировал, окружил себя призраками прошлого. Он часто читал в газетах и слышал в речах истеричные выкрики: «к прошлому возврата нет», — он мечтал об этом прошлом и к этому прошлому он стремился.
В комнате было темно. Но глаз привык к темноте, Полежаев различал диваны, стулья, и кресла, и окна без занавесей, за которыми в темноте гневно плескалась Нева.
Он играл и пел, позабыв о времени, и не видел, как вечер сменился ночью и стал стихать порывистый ветер.
Дверь гостиной, как и все двери квартиры, бывшие без замка, отворилась, и тёмная тень высокого человека скользнула в неё и внесла с собою запах лайковой кожи, дождя и воды и холод ненастной осенней ночи.
Полежаев перестал играть и вгляделся в вошедшего. Вошедший сам назвал себя.
— Осетров, — сказал он. — Простите, что без зова. Сидел я у коммунистов над вами. Слушал, как вы играете. Томит меня тоска смертельно. Послушать пришёл. Простите. Играйте что-нибудь.
Полежаев стал играть на память ноктюрн. Осетров сел в кресло в углу у конца рояля, и темнота скрыла его. Полежаев совсем забыл, что у него гость. Он вздрогнул, когда услышал из угла тихий, непривычно мягкий голос Осетрова.
— Спойте, товарищ, — сказал Осетров, — ту песню, что тогда у Коржикова пели. Вот про разбойника-то, который спокаялся и в монастырь пошёл.
Полежаев послушно заиграл и запел вполголоса:
Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Так в Соловках нам рассказывал
Инок святой Никодим.
Жило двенадцать разбойников,
Жил Кудеяр атаман.
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
— Что, товарищ, это правда или так — сказка одна? — спросил Осетров, едва Полежаев кончил петь.
— Народ эту песню сложил, — сказал Полежаев.
— Я думаю, правда… Ах, товарищ, ведь если бы не правда — жить нельзя… Томит меня тоска смертельная… Ночью покоя нигде не нахожу. Призраки меня преследуют… Да… было дело так. Незадолго до революции познакомил меня Кноп, офицер один, еврей… Он солдатами убит. При Керенском ещё, когда офицеров избивали солдаты. Да. Познакомил меня с женою моего полкового командира… Ну и влюбился я в неё без ума… Натешился вволю. Она и пикнуть не посмела. Я и чекист теперешний, Гайдук, ею владели… Ну только приехал генерал Саблин и запрятал её невесть куда. Сказывают — в Финляндию. В прошлом году, значит, Саблина замучили и расстреляли, и лишилась, значит, она поддержки. Мужа её ещё раньше солдаты так, задарма, убили. Тоже в первую революцию, при Керенском. А были у ней, значит, вещи, квартирная обстановка на складе. Знал я про это. И вот сговорился я со Шлоссбергом, и отдали мы приказ от Вечека, чтобы, значит, если кто за этими вещами придёт, чтобы арестовать и нам предоставить. В марте этого года приехала. Голодная, без денег — из Финляндии, значит, прогнали. Девочка с нею восьми лет, ничего нет. Одежонка плохая. Значит, уже все продала, ничего не осталось. Предоставили её в Вечека. Сговорились мы со Шлоссбергом, чтобы для допроса доставить к Коржикову, ну и я там был. Узнала она меня. А всё такая же, прекрасная, белая. Старая любовь-то, значит, как говорится, не ржавеет. Затрепетал я весь. Запёрлись мы, значит, вчетвером. Коржиков, я, она и девочка. Я притворился, будто покаялся. Ну, только она чувствует, ничего не ест, а девочку удержать не может. Голодная, а так чистенькая, розовенькая, видно себе отказывала, а девочку кормила… Мать! Коржиков смеётся над ней. Девочке конфеты сует и слова нехорошие заставляет повторять. Хулу на Бога и Богородицу говорит. Девочка кричит на него: «Не смей, дядя, не смей это делать. Нельзя про Боженьку так говорить». Она мечется по комнате, как птица в клетке. Плачет, руки ломает. Но молчит. Нам это тогда очень все забавно казалось. Коржиков девочку раздел, значит, повалил на диван, насиловать хочет. Она на него кинулась. Коржиков мне говорит: «Подержите, товарищ, пусть посмотрит, она лучше тогда, страстнее будет, больше чувства вам даст». Я схватил её. Насилу справился. Сильная такая стала. Девочка плачет, хрипит… Ну после я на неё навалился. Только чувствую, холодная она. Гляжу — умерла… И вот с той поры, товарищ, нет у меня покоя. Все она мне мерещится. Вчора вошёл я в комнату… Днём… А она сидит в кресле, простоволосая, волосы по спине распущены каштановые. Посмотрела так на меня и одними губами говорит: «Отдай девочку! Отдай Валю!»… — и исчезла… И вот, товарищ, стал я бояться… Спойте ещё раз эту песню.
Полежаев заиграл и запел ещё тише, чем пел прежде:
Много добра понаграбили.
Много убили в лесу,
Сам Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу.
Днём с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть Господь пробудил…
— А если это, знаете, — сказал Осетров задумчиво и помолчал… — Совесть, или вот это самое… Бог-то… Я не верил, а только. — Ну, да вот расскажу, — судите сами. Помните, приказ такой вышел от народных комиссаров, чтобы, значит, Александро-Невскую лавру ликвидировать. Имущество в народную казну, а помещения для красноармейцев забрать, а в соборе хотели, значит, театр устроить. Приехал и я туда с матросами. Все такой бравый народ. Орлы революции. Забрали мы там попика. Уж очень он народ против нас возбуждал. И так ничего особенного не было в нём. Простой такой, небольшого роста, седоватый, бородка чуть раздвоенная, вот как Христа рисуют. Отец Василий его звать. Посадили его матросы в автомобиль, а он спокойный такой, будто даже счастлив чем. А чему радоваться? — на расстрел его везли. Тогда мы на Смоленском поле больше расстреливали. Ему матрос и говорит: «Батя, а ты знаешь, куда и зачем тебя везут?» — А он говорит: «Этого ни вы, ни я не знаете. Один Господь Бог это знает». Матросы захохотали, весело так. — «Ишь, — говорят, — батя, притворяется, расстреляем тебя, и вся твоя недолга». — А он опять своё: «Это, — говорит, — как Бог укажет, а без Его святой воли ни один волос с головы моей не упадёт». И так, знаете, это твёрдо, сильно выговорил, что мы даже примолкли. И только отъехали — шина лопнула. — «Ничего, — говорят матросы, — катай без шины». Едем дальше. Трясёт машину, кидает. На Невском у Думы вторая шина лопается. А автомобиль, надо вам сказать, новый был, недавно из Царского гаража взятый. Постояли, походили, покрутили головами. Шофёр говорит: «Я за запасной шиной духом слетаю, тут недалече в Михайловский манеж». — Матросы говорят: «Не надо, валяй так». Не доехали мы и до Мойки — лопается третья шина. Да, понимаете, — история. И вдруг стало нам всем оченно страшно. Ну, как это от Бога? Праведника везём. Один матрос среди нас был, угрюмый такой дядя. Он собственноручно тридцать офицеров живьём потопил. Ядра к ногам привязывал и в воду бросал. Вот и говорит он: «Ну, отец Василий, коли ещё шина лопнет или что случится, ступай на все четыре стороны, а я в монастырь пойду, грехи замаливать стану»…
Поехали дальше. И, верите ли, у Александровского сада четвёртая шина лопнула, и магнето испортилось. Никуда машина стала. Вышли мы. Матрос тот священника высаживает. Шапку снял всенародно: «Благословите, батюшка», — говорит. Руку ему поцеловал, и за ним все матросы один за одним под благословение подошли… Ну, и я тоже. — «Идите, батюшка, — говорят, — простите нас Христа ради». — «Бог простит», — сказал отец Василий и пошёл по Гороховой назад. — Вот какая история была. Мне бы тогда образумиться, а то вот до чего дошёл…
Осетров замолчал. В гостиной было тихо. За окном шумела Нева и волны то грозно вскипали, то плакали, разбиваясь о гранит.
XV
— Вы меня простите, товарищ, — тихо сказал Осетров, — что так вас утруждаю, а только моя к вам просьба, спойте ещё раз. Мысли эта песня во мне освежает.
Бросил своих он товарищей.
Бросил набеги творить.
Сам Кудеяр в монастырь пошёл
Богу и людям служить.
Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Сам Кудеяр — Никодим…
Мягко звучала песня, обрываясь тихими умиротворяющими аккордами. И после долго оба молчали. Прошло немало минут. Глухо билась за окном пленённая Нева, и дождик падал на стекла.
— Приказал Ленин, — тихо заговорил Осетров, встал с кресла, подошёл к Полежаеву и стал, облокотившись на рояль. — Приказал Ленин в Москве Иверскую снять, а икону Николая Чудотворца, что над Кремлёвскими воротами висела, красным кумачом завесить. Первое мая тогда первый раз под советскою властью праздновали. Сделали мы это всё, согласно приказу. Занавесили лик угодника Божия с ночи и ушли. Только утром иду я с нарядом красноармейцев и вижу: народ толпится у ворот и то тут, то там вспыхнет пение: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас!» Разгорелся я весь. «Ах, — думаю, — опять эти попы что-нибудь устроили. Пакость какую-либо, чтобы народ смущать». Кинулся туда. Гляжу — лик угодника ясно глядит, а кругом красная материя в клочья разодрана. — «Ах, ты, — думаю — какой негодяй это сделал!». Достали мы снова лестницу, затянули кумачом, стали народ разгонять. А люди и говорят нам: «Не беспокойтесь, товарищи, ангелы с него вашу бесовскую тряпку снимут-таки». Я остался. Пока с народом говорил и на образ не смотрел — ничего же не может там случиться. Только слышу: «Вот он, батюшка наш заступник!» — и опять, значит, запели: «Святителю отче Николае». — Я глянул — в лохмотьях алая тряпка, а лик глядит на народ. Доложили Ленину. Обругал нас. «Ветер, — говорит, — о зубцы иконы разорвал кумач. Содрать её совсем к чёртовой матери»… Ветер… много чего тогда было заворочено кумачом, да не содрал ветер, а это, вишь ты, — ветер. И никто не исполнил приказа Ленина, не снял иконы… Так вот, товарищ, ежели всё это есть, так, значит, и покаяние есть.