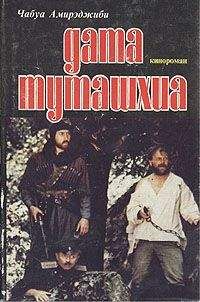Александр Сегень - Державный
— Надо молиться. Надо поститься. Нельзя умирать с такими страшными мечтаниями.
Никола-зимний был в Подкопаевской церкви престольным праздником, и постник, сподобившись причаститься Святых Тайн, позволил себе съесть варёную стерлядку и выпить целую братину токайского, коего венгерский король прислал ему к Рождеству двадцать четыре антала[168]. От этого ему сделалось хуже, левую половину рта снова скривило, и из кривого рта выползали кривые слова, половину из которых невозможно было разобрать. Зато в душе государя вино зародило давно забытую радость жизни, желанье жить ещё долго-долго и после смерти достичь рая, а не пустоты небытия.
От Николы до самого Сочельника Державный продолжал говеть по уставу Иосифа Волоцкого, исключая и разрешаемую в Рождественский пост рыбу, питаясь один раз в два дня, но как только чувствовал, что в душе его вновь поселяется пустота и мечта о грядущем небытии, он требовал подать ему полбратины токайского.
Накануне Сочельника в понедельник приехал в Подкопай сам игумен Иосиф и даже согласился выпить вместе с Иваном немного вина. Разговор длился часа три. Судьба еретиков была решена, хотя суд над ними должен был ещё только состояться. Он уже не предполагал иного решения участи жидовствующих. Утром последнего дня перед праздником Рождества Иван с Иосифом вместе исповедовались отцу Агафону, а причащаться отправились уже к митрополиту Симону, на Москву. После этого Причастия в Успенском храме, там же, пред образом Пресвятой Богородицы Владимирской, и состоялся суд. Иван боялся, что разволнуется и его снова хватит удар, но всё обошлось спокойно и благополучно, никто не кричал, не гневался. Можно сказать, и суда-то никакого не было — просто объявили еретикам, что они еретики и будут в скорейшем времени лишены жизни. Когда же их увели, довершители суда посовещались и определили, в кой день и как жечь осуждённых.
До самого вечера Иван был напитан одним лишь Причастием, чувствовал, как оно нерастворимо светится внутри него — плоть и кровь Христова. И когда на небе зажглась первая звезда, не хотелось даже сочевничать, посылать в утробу ястие, нарушать чистоту Святых Тайн, их нераздельное господство. А насытившись, почувствовал некоторое разочарование в себе — только что был сосудом с драгоценностью, и вот уже вновь ты простая посудина, набитая кашей.
Разговор с большим воеводой поначалу умилил Державного — какой хороший Данила Васильевич, убедил не портить праздника. Но вскоре, чувствуя, как наваливаются усталость и сон, Иван резко переменился по отношению к Щене-Патрикееву — ишь ты, он, значит, добрый и хороший, а мы плохие, душегубы проклятые. Намереваясь идти в покои, дабы соснуть пару часиков, Иван Васильевич стал снова думать, а не пожечь ли негодяев завтра.
Задремав прямо за столом, Иван проснулся оттого, что кто-то нёс его на руках. Оказалось, не слуги, а сын Вася один несёт его.
— Тяжело, сынок, — пробормотал государь. — Слуги же есть.
— Какой там тяжело, ровно пушинка, — отвечал молодец.
— Некогда я тебя таскал, теперь вот дожил — ты меня носишь, — едва не плача, прошептал Иван Васильевич.
Когда уложили, сон мгновенно унёс его прочь от Москвы, усадил за стол в Боровске, куда так часто в последнее время уносила государя грёза, на пир по случаю избавления от Ахмата. И Федька Курицын отчётливо привиделся, живой, молодой, весёлый. Будто он снимает с пальца своего некий дивный перстень и протягивает его в дар Ивану со словами: «Вот тебе, государь, Иллюзабио. С ним не пропадёшь. У самого князя тьмы любимчиком станешь». Но только Иван взял из руки дьяка своего перстень, тотчас подарок превратился в пылающий угль, больно обжёг кончики пальцев государя. Он проснулся и хотел поднести руку, чтобы подуть на обожжённые персты, да не слушалась шуйца, не ожила даже от ожога.
— Надо же! — проворчал Иван Васильевич, садясь на своей кровати. — Что за чертовщина! Эй, подайте умыться!
Вскоре он уже выходил на Красное крыльцо, под которым собралось великое множество народу, жаждущего увидеть своего государя во всём великолепии. На Иване была длинная парчовая риза, сплошь расшитая золотой нитью и осыпанная бисером, отороченная горностаевым мехом; на плечах — тяжёлые бармы с финифтями, изображающими Христа Спасителя, Богоматерь и всех двенадцать апостолов; на голове — шапка Мономаха, у которой совсем недавно поменяли мех на более свежий и пышный. Одесную, держа государя под локоть, шёл большой воевода, ошую, можно сказать — неся всю левую половину отца, шагал великий князь Василий Иоаннович. Впереди выступали со скипетром и державою, также некогда дарованными Владимиру Мономаху царём Алексеем, другие сыны Ивана — двадцатичетырёхлетний Юрий, князь Дмитровский, и двадцатитрёхлетний Дмитрий, князь Углицкий, по прозвищу Жилка, высокий, худой, жилистый, словно монах обители Иосифа Волоцкого. Младшие сыновья и дочери Державного — Феодосия, Семён, Андрей и Евдокия — шли за спиной отца. Из всех детей не хватало только покойного Ивана Ивановича да Алёнушки, отданной замуж за короля польского и великого князя литовского Александра Казимировича.
Мороз к ночи совсем усилился, шёл пятый тёмный час[169], Красную площадь озаряли огни множества светочей, но и без того было светло, так ярко светилась луна и звёзды. Народ при виде Державного пал на колени, низко кланяясь.
— Крикни им, Вася, чтобы ступали в храмы, — попросил Иван.
Василий исполнил просьбу отца, но народ не спешил подчиняться приказу, провожал своего государя до самого Успенья. Иван скрипел зубами, изо всех сил стараясь не выглядеть увечным калекою, делал вид, будто сам идёт, а не несут его воевода и сын. В десяти шагах от главного кремлёвского собора остановился, трижды осенил себя крестным знамением, отдышался.
— А может, не будем и вовсе жечь еретиков, а, Вась? — спросил вдруг тихонько.
— Зело было бы добро, — сказал воевода Данила.
— Поздно, — непреклонно возразил Василий. — Поздно, батюшко.
— Сон я нынче плохой видел, — сказал Державный. — Будто мне Федька-покойник Курицын перстень подарил, а он вспыхнул и ожёг мне пальцы. Нехорошее сновиденье.
— Наше дело правое, — вновь не согласился сын.
— Ну, как знаешь, — вздохнул Иван и двинулся дальше.
На соборной паперти государя встречали с зажжёнными большими свечьми попы и монахи. Средь них стояли Иосиф Волоцкий, его брат Вассиан, с некоторых пор архимандрит Симонова монастыря, их племянник, тоже Вассиан, епископ Коломенский. Зазвенели колокола Иоанна Лествичника, и все стали креститься. В самом храме Державного встречали митрополит и протопресвитер. Поклонились и двинулись к алтарю. Тем временем государя повели к образу Богородицы Пирогощей, поставленному в вызолоченный серебряный киот и обложенному золотой ризой с изумрудами, адамантами и жемчугом. Пред этой главной иконой всего христианского мира стояли три седалища для обоих великих князей и митрополита, чтобы и он мог время от времени присаживаться.
— Сразу сядешь? — спросил Василий.
— Нет, докуда смогу, постою, — отвечал Иван.
Богослужение началось, певчие громко и дружно запели «Царю Небесный», на душе у Ивана сделалось хорошо, тягость сна про Федьку и его страшный подарок стала рассасываться. Иван пытался вспомнить, какое слово произнёс Курицын, именуя перстень, и не мог.
— Пёс с ним! — пробормотал государь.
— Что? — спросил Василий.
— Пустое.
Хор громогласно грянул «С нами Бог!».
Свершилось! Родился Христос! Всем наваждениям Сочельника — конец. Спаситель с нами!
Митрополит и протоиерей приложились к Рождественской иконе, лежащей пред аналоем, и отправились в алтарь.
— Яко с нами Бог, яко с нами Бог, — тихонько пропел Державный, почувствовал слабость в ногах и стал усаживаться. Василий последовал его примеру.
— Постоял бы, пока тропарь не допоют, — проворчал Иван. Василий с явной неохотой снова встал. Своды храма огласились всеобщим пением тропаря. Иван, жалеючи, что не держат ноги и приходится сидеть, подпевал, стараясь чётко произносить слова:
— Рождество Твоё, Христе Боже наш, воссия мирови Свет Разума. В нём бо звёздам служащий звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!
Думный боярин Василий Данилович, сын покойного Холмского, громче всех выводил за спиной у Державного. Иван вдруг подумал, что и сам Холмский, и многие другие — Ощера, Русалка, Руно, Беззубцев, Челяднин, Драница, Верейский, Акинфов, все прочие славные военачальники, которых ныне нет в живых, тоже незримо стоят там, сзади. И милый сын Ваня-покойничек с ними. И все, кто был люб и кого не стало на свете, витают под сводами Аристотелевой храмины, невидимо придя в мир вместе с вновь родившимся младенцем Иисусом.