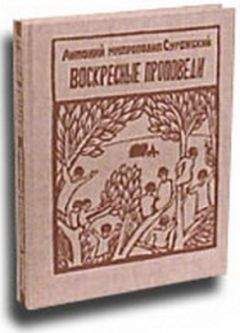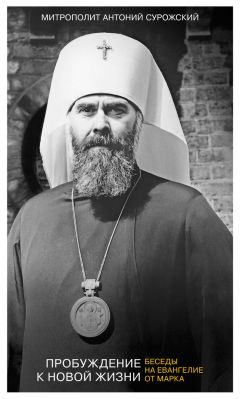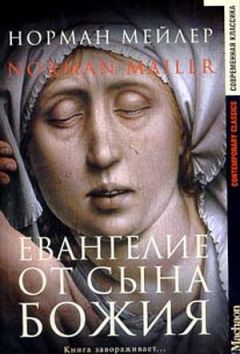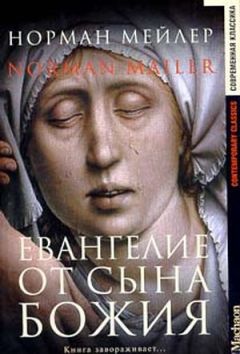Дэвид Митчелл - Тысяча осеней Якоба де Зута
Враждебная атмосфера воцаряется за столом.
— Желтушные пигмеи, — заявляет Рен, — принимают нас за банду гайдуков!
Фишер, чувствуя приближающийся взрыв недовольства, просит посмотреть письмо мажордома.
Ладонь Хоувелла останавливает его:
— Подождите. Дальше еще хуже, сэр: «Английскому капитану приказывается перевезти на берег весь порох…»
— Они скорее возьмут наши жизни, во имя всего святого, — клянется Катлип, — чем наш порох!
«А я‑то, дурак, — думает Пенгалигон, — позабыл, что дипломатия никогда не бывает простой».
Хоувелл продолжает: «…весь порох и допустить инспекторов на свой корабль, чтобы они убедились в исполнении приказа. Англичане не должны пытаться сойти на сушу». Это подчеркнуто, сэр. «Такая попытка без письменного разрешения магистрата будет расценена как объявление войны. И наконец, английский капитан предупреждается, что законы сегуна запрещают контрабанду и христианские кресты». Письмо подписано магистратом Широямой.
Пенгалигон трет глаза. Болит подагрическая нога.
— Покажите нашему «послу» плоды его хитроумия.
Петер Фишер читает письмо с нарастающим недоверием и, заикаясь, тонким голосом протестует, обращаясь к Хоувеллу.
— Фишер заявляет, капитан, что мажордом не упомянул ни о шестидесяти днях, ни о порохе.
— Кто бы сомневался, — пожимает плечами капитан, — Фишеру сказали то, что сочли нужным. — Пенгалигон разрезает край конверта с письмом от доктора. Он ожидает увидеть голландский язык, но текст довольно аккуратно написан на английском. — Там, на берегу, есть способный лингвист. «Капитану Пенгалигону Королевского флота! Сэр, я, Якоб де Зут, избранный на сей день президентом Временной республики Дэдзима…
— «Республика»! — насмешливо ржет Рен. — Эти обнесенные стеной паршивые склады?
— «…уведомляю Вас, что мы, нижеподписавшиеся, отвергаем Меморандум, протестуем против вашей попытки незаконного захвата голландской фактории в Нагасаки, отказываемся от Вашего предложения перейти под крыло Английской Восточно — Индской компании. Мы требуем возврата директора ван Клифа и информируем мистера Петера Фишера из Брунсвика, что отныне он изгнан с нашей территории».
Четверо офицеров смотрят на экс — посла Фишера, который сглатывает слюну и просит перевести письмо дальше.
— Продолжение: «Что бы ни говорили Вам господа Сниткер, Фишер и пр., разрешите напомнить, что вчерашнее похищение рассматривается японскими официальными лицами как нарушение суверенности. Ответная реакция не замедлит себя долго ждать, и я не в силах ее предотвратить. Примите во внимание не только команду корабля, невиновную в этих государственных манипуляциях, но также их жен, родителей и детей. Очевидно, что капитан Королевского флота следует приказу, но а l’impossible nul n’est tenu. С уважением, Якоб де Зут». И подписано всеми голландцами.
Смех, лихой и звонкий, доносится из кают — компании внизу.
— Пожалуйста, поделитесь содержанием этого письма с Фишером, мистер Хоувелл.
Пока Хоувелл переводит текст на голландский язык, майор Катлип разжигает свою трубку:
— Зачем этот Маринус накормил нашего пруссака ослиным навозом?
— Чтобы выставить, — вздыхает Пенгалигон, — полнейшим идиотом.
— Что этот жабеныш проквакал, — спрашивает Рен, — в конце письма, сэр?
Толбот откашливается:
— Никому не под силу добиться невозможного.
— Как я ненавижу человека, — добавляет Рен, — который пердит по — французски и ожидает аплодисментов.
— Что это за… — фыркает Катлип, — …шутовская «Республика»?
— Укрепление духа. Братья — сограждане будут воевать смелее, чем подчиненные. Этот де Зут совсем не глупец, каким хотел нам представить его Фишер.
Пруссак выстреливает в Хоувелла очередью гневных опровержений.
— Он заявляет, капитан, что де Зут и Маринус все провернули между собой — они подделали подписи. Он говорит, что Герритсзон и Баерт не умеют писать.
— Так покажите ему отпечатки пальцев! — Пенгалигон еле удерживается от желания врезать пресс — папье из китового зуба по бледной, потной, перекошенной от отчаяния физиономии Фишера. — Покажите ему, Хоувелл! Покажите ему отпечатки! Пальцев, Фишер! Пальцев!
Доски скрипят, матросы храпят, крысы грызут, лампы шипят. Сидя за разложенным кабинетным столиком в свете лампы, Пенгалигон чешет кожу между костяшками левой кисти и слушает своих двенадцать часовых, передающих друг другу сообщение: «Три склянки, все хорошо» — вдоль фальшборта. «Нет, не хорошо, черт побери», — думает капитан. Два чистых листа ожидают превращения в письма: одно к мистеру… — «К президенту — думает он, — никогда», — Якобу де Зуту с Дэдзимы, и другое — к его светлейшей персоне магистрату Широяме из Нагасаки. Лишенный вдохновения, он чешет голову, но на промокательную бумагу сыпется лишь перхоть и вши — не слова.
«Шестидесятидневное ожидание, — он сбрасывает упавший мусор в лампу, — еще можно объяснить…
Переход через Китайское море в декабре, наверняка скажет Уэц, не подарок.
…но сдать наш порох — это точно трибунал».
Таракан шевелит усиками в тени чернильницы.
Пенгалигон смотрит на отражение старого человека в зеркале для бритья и читает воображаемую статью, которая появится в конце будущего года в «Лондонской Таймс».
«Джон Пенгалигон, бывший капитан «Феба», фрегата Его королевского величества, возвратился из Японии, где побывал с первой британской миссией в Японию со времен правления Якова Первого. Его сняли с должности и отправили на пенсию без денежного вознаграждения, поскольку ему не удалось добиться ни военного, ни коммерческого, ни дипломатического успеха».
— Тебе не доставит удовольствия, — предупреждает отражение, — встреча с орущей толпой в Бристоле и Ливерпуле. Слишком много Хоувеллов и Ренов стоят в очереди…
«Чертовы голландские глаза, — думает англичанин, — де Зута…»
Пенгалигон решает для себя, что у таракана нет права на жизнь.
…будь проклято его молочно — сырное здоровье, будь проклято его умение писать на моем языке.
Насекомое убегает от удара кулака человека разумного.
В животе бурлит, нельзя терять ни секунды.
«Или я вытерплю боль от клыков, рвущих мою ступню, — понимает Пенгалигон, — или насру в бриджи».
Боль, пока он ковыляет к двери нужника, невыносима…
…в темном закутке он расстегивает бриджи и плюхается на сиденье.
«Моя ступня, — боль то усиливается, то чуть затихает, — становится окаменевшей картофелиной».
Агония этих десяти шагов свела на нет желание облегчиться.
«Хозяин фрегата, — думает он, — но не собственных внутренностей».
Мелкие волны шлепают по корпусу судна в двадцати футах ниже.
«Прячутся молодки, — бубнит он похабную песенку, — словно птички по кустам…»
Пенгалигон крутит обручальное кольцо на располневшем с возрастом пальце.
«Прячутся молодки словно птички по кустам…
Мередит умерла три года тому назад, но в памяти ее образ уже размыт.
…и будь я молодым, залез бы в те кусты…
Пенгалигон сожалеет, что не заплатил портретисту те пятнадцать фунтов…
…к моей красотуле, прямиком к моей красотуле».
…но требовалось оплачивать долги брата, а жалованье опять запаздывало.
Он почесывает кожу между костяшками левой кисти, которая отчаянно зудит.
Знакомое едкое жжение в анусе. «Еще и геморрой?» — думает Пенгалигон.
— Нет времени жалеть себя, — говорит он. — Письма должны быть написаны.
Капитан слушает перекличку часовых. «Пять склянок, все хорошо…» Уровень масла в лампе низок, но, если встать, чтобы наполнить ее, проснется его подагра, а ему не хочется звать Чигуина ради такого пустяка. Свидетельство его нерешительности — чистые листы бумаги. Он сгоняет свои мысли воедино, но они разбредаются, словно овцы. «У каждого знаменитого капитана или адмирала, — размышляет он, — есть знаменитое место: у Нельсона — Нил, у Родни — Мартиника и пр.; у Джарвиса — мыс Сент — Винсент». А почему у Джона Пенгалигона не может быть Нагасаки? «Из‑за паршивого голландского клерка, звать которого Якоб де Зут, — думает он, — вот почему. Будь проклят ветер, занесший его сюда…»
«Предупреждения в письме де Зута, — соглашается капитан, — блестящий ход».
Он смотрит, как чернильная капля с гусиного пера падает в чернильницу.
«Если я учту его предупреждения, то окажусь у него в долгу».
Неожиданный дождь рябит море и барабанит по палубе.
«Но игнорирование предупреждения может оказаться опрометчивым…
Уэц руководит сегодня ночной вахтой левого борта: он приказывает натянуть полотнища и поставить бочки, чтобы набрать дождевой воды.