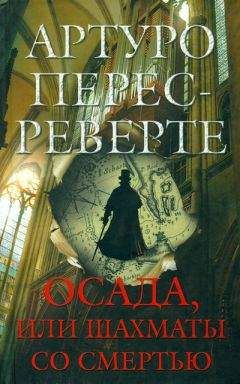Овидий Горчаков - Если б мы не любили так нежно
Но как только слег Филарет и ослабил бразды правления в своих сухих и жестких, как когти, руках, Трубецкой стал пугать Царя растущей опасностью от фальшивых монет, хотя злые языки на Москве судачили, что князь и сам не прочь умножить свои сокровища захваченными у фальшивомонетчиков деньгами. Да и только ли захваченными!..
И Царь, чьей августейшей рукой водила лапа Трубецкого, издал указ:
«…Но те воры нашей государской милости к себе не узнали, таких воров теперь умножилось и от их многого воровства по поклепным воровским оговорам многие простые невинные люди пострадали…» А посему указал Михаил снова заливать им горло расплавленными поддельными монетами.
Трубецкому была от этого дела троякая выгода: выказал он себя перед Царем еще раз радетелем и ревнителем царской казны; тем приблизился к нему в тревожное время кончины отца царского Филарета; нагнал страху на фальшивых монетчиков, расчистив путь собственным махинациям.
Уже много месяцев шла большая война с поляками. Все больше появлялось в Москве новых вдов и сирот. Гонцы из-под Смоленска привозили худые вести. Мало уж кто чаял дождаться обещанной скорой победы. Горе-злосчастье заглядывало во многие московские дома. От множества воинов не было ни слуху, ни духу. Духовенству это было на руку: попам щедро платили за разные службы, за поминовения, за отпевания.
В битком набитой Николоявленнской церкви протопоп читал проповедь:
— Ваши сыны и братья бьются за веру, Царя и отечество под стенами града Смоленска, и многие уже пали во славу Господа. Но вы, дети мои, не должны скорбеть, как скорбят неверующие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Сам Господь при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут, и все мы восхищены будем не на облаках в сретение Господу на воздухе, и всегда с нашими сродниками и Господом будем…
Без этой веры Наташа не могла бы, наверное, жить. Только эта вера и была ее утешением все эти немыслимо долгие месяцы разлуки. С Пасхи не имела она вестей от мужа, а до Пасхи он сам не писал, но рейтары, приезжавшие в Москву по своим делам, говорили ей, что он жив и здоров.
Глухие рыдания вдов и сирот в храме разбивались о его гулкие своды. Наталья тихо плакала, прижимая к себе своих сыновей. Попы с амвона славили войну. Вдовы и сироты проклинали ее. Безучастно взирали на густую толпу верующих лики святых страстотерпцев.
Наташа уповала теперь на трех святых — Георгия, Андрея и Иоанна-воина, заступника всех воителей, включая, верно, и наемных.
Пятого марта 1633 года все в стане Шеина сбежались смотреть на прибывший большой наряд — тяжелые пушки, привезенные из Архангельска через Москву санным поездом. Пушки невиданного на Руси большого калибра были доставлены на полозьях в Москву еще в декабре 1632 года, хотя голландцы обещали Шеину эти орудия еще летом. Однако расчеты голландцев спутала всеевропейская война, а затем, когда в декабре выгрузили они пушки в архангельском порту, выяснилось, что у русского Царя денег для их оплаты нет. И только когда князь Пожарский собрал достаточно денег и передал условленную сумму голландцам, отправились пушки по зимнему пути в Москву. А там бояре постарались, чтобы большой наряд задержался в столице еще почти три месяца!
— С этим нарядом, — объявил Шеин собравшимся, — я взял бы Смоленск, как только пришел сюда с армией!
Все три четырехпушечные батареи большого наряда поставили на трех заранее оборудованных местах за острогом Шеина. На их установку затратили несколько дней. Потом ждали отставший санный обоз с огромными железными ядрами. Во время пристрелки Шеин третьим выстрелом — наводил и фитиль подносил сам главный воевода — сбил флаг над Малаховскими воротами — флаг с белым польским орлом. Над батареями грянуло дружное русское «ура!». Бомбардировка продолжалась с 15 по 27 марта, пока не расстреляли весь ядерный запас. Основательно разрушили одну башню и сажен десять стены. Шеин, грызя ногти от нетерпения и глуша тревогу зеленым вином, ждал с часу на час другой обоз с ядрами. Начнется распутица, застрянет обоз — пиши пропало!
Вместо долгожданного обоза с востока нагрянули ляхи с запада. Сильный отряд гетмана Радзивилла прорвался на недостаточно укрепленную Покровскую гору на правом берегу Днепра, где их не ждали, но вовремя засекли, а оттуда, пока основные силы отряда мужественно сдерживали напор русских, часть его поскакала через днепровский лед в крепость, где им открыли Днепровские ворота и впустили в город. Рейтар, захотевших во главе с Лермонтом на плечах ляхов ворваться в те же ворота, отогнали яростным пушечным огнем.
Вечером Шеин вызвал к себе Лермонта.
— Сколько людей польских прорвалось в крепость? — мрачно спросил главный воевода, отхлебнув водки из серебряного кубка и хрустя соленым огурцом.
— Пожалуй, до тысячи, хотя сосчитать их было невозможно, — как на духу ответил Лермонт.
— А мне сбрехали воеводы, будто не больше полутора сотен, — прорычал Шеин. — И Царю я так описал. Выходит, обманывал я Государя, а?! Плохо, ротмистр! Сорвали нам ляхи приступ. Они да дождь со снегом…
На Покровскую гору Шеин поставил усиленную конную и пешую стражу и велел построить там острог. Второй обоз с ядрами для большого наряда прикатил перед самой распутицей. Новая бомбардировка с 4 по 10 апреля разметала все ляшские заплаты на свежих проломах, сбила еще две башни, высадила с дюжину сажен стены. Ледяной дождь не остановил Шеина. Он бросил на приступ почти все свое войско, но прорваться в проломы не удалось. Воевода Измайлов, князья Прозоровский и Белосельский опоздали на приступ, пришли, когда Шеин был отбит с большими потерями.
Дороги между тем так развезло, что третий обоз застрял в пути между Дорогобужем и Вязьмой. Только 23 апреля притащились к Шеину около двух десятков подвод с запасом и зарядом. На ядра для большого наряда можно было махнуть рукой до конца распутицы.
На совете в шатре Шеина после неудачного приступа главный воевода так обидно распушил воевод, так обматерил их, что все трое в тот же вечер отправили на Москву гонцов: били Царю челом на Шеина.
И все же, распуская совет, Шеин с прежней уверенностью заявил:
— А Смоленск мы все же возьмем. Возьму или умру!
Лермонт только плечами пожал. Твоими бы устами, Михайла свет Борисович, мед пить! Как расколешь ты этот орешек? Кто-кто, а ротмистр Лермонт знал горькую правду — пороховое зелье было на исходе, кончился почти весь провиант, а московские приказы, Царь и патриарх словно забыли про свое войско под Смоленском. Известно: с глаз долой — из сердца вон. Так с Лермонтом было уже в крепости Белой, когда Жигимонт, ныне покойный, забыл про свой осажденный в ней шотландский гарнизон. Так было теперь под Смоленском. Конечно, многие сильные люди в Москве не желали Шеину скорой победы, и так уж больно высоко, превыше всех прочих воевод, вознесся он!.. Онемели восьмитысячефунтовые голландские пушки-кулеврины, расстреляв все свои ядра и изведя порох. Каждую из этих пушек тащили от Москвы до стен Смоленска двадцать три ломовые лошади. Теперь и коней съели. Когда Измайлов попытался спасти коней, Шеин глянул на ротмистра Лермонта (дело было в шатре главного воеводы) и молвил:
— Вот ротмистр мне рассказывал под Дорогобужем, что Кортес, высадившись на чужом берегу за океаном, сжег свои корабли, дабы отрезать себе путь к отступлению. Этих пушкарских лошадей мы пустим на мясо!
— Москва не простит нам потери этих пушек. Золотом за них заплачено, — возразил Измайлов.
— Это я знаю лучше тебя, Артемий Васильич. Сам покупал у Нидерландских Соединенных Штатов, когда ведал Пушкарским приказом.
— Сам, да не на свои деньги!
— Верно! Мы давно бы выиграли эту войну, кабы был я еще и царским казначеем, как лет тридцать назад выигрывал войны королю Франции Генриху Четвертому его великий маршал артиллерии Рони, он же герцог Сюлли, он же королевский министр финансов. Кстати, он же заведовал иноземными делами.
Шеин смел делать и такие заявления:
— Царь немолчно жалуется на недостаток денег в казне, а сам содержит две сотни сокольников и кречетников, тысячи три соколов, кречетов и ястребов и для их корма и выучки почти сто тысяч голубиных гнезд! А сам из-за больных ног даже вовсе не охотится!
С удивительной быстротой долетали эти рискованные замечания до ушей Царя в Москве…
Главным царским шпионом по обычаю того времени был подьячий Тайного приказа, подчиненного князю Трубецкому. Подьячие этого приказа назначались как ко всем посольствам в иноземные государства, так и к уходившим в поход воеводам. Эти шпионы докладывали все Трубецкому, а тот — Царю. Государевым оком и ухом при Шеине был некто Фрол Шариков.
Главный воевода готовил армию к новому приступу.