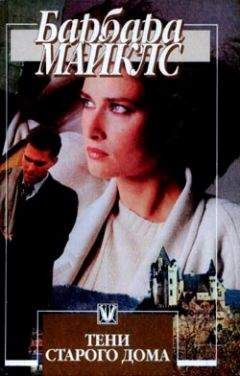Эфраим Баух - Ницше и нимфы
Вот вам и finita la comedia.
Заметьте: комедия, а не трагедия.
Ее боятся, с ней не шутят, скорее, отшучиваются, чем я и занимаюсь всю мою жизнь, избрав ее целью — проникнуть в тайну Бытия даже ценой преодоления пределов разума, ибо впасть в безумие вовсе не означает — обернуться мертвецом.
Конечно, в этом стремлении пробиться по ту сторону разума — огромный, ничем не окупаемый риск, но кто-то же должен это сделать — быть первым в этом самом главном прорыве, оправдывающем не просто звание философа, а — сущность философа.
И когда это желание, блажь, навязчивое стремление захватывает душу целиком, — уже и не пугаешься тому, что обратного хода быть не может.
Я давно это смутно ощущал, и как-то открылся единственному существу, к которому испытывал абсолютное доверие, — Лу: «Я ношу в себе что-то такое, чего нельзя почерпнуть из моих книг».
Это ощущение постоянной недосказанности никогда меня не покидало, постоянно маячило за кончиком моего пера, выводящего на бумаге настигающий и опрокидывающий меня поток мыслей. Более того, я понимал, что и творить смогу, пока меня будет преследовать и настигать эта мучительная недосказанность. Прекратится она, и всё, что выйдет из-под моего пера, будет впустую. Может, эта скрытая тяга души и есть тот самый Amor fati — любовь к фатализму, к неизреченной Судьбе, тяга к тому, от чего, как черт от ладана, убегают даже самые крупные философские умы. Слишком впадая во вменяемость, они теряют глубину, означающую гениальность разума, свободу души, и, сами того не замечая, превращаются в прилежных философов-филистеров.
Я-то рано познал самобытную сущность философии, обращающуюся против нее. И чем философия искренней, тем она исконней, тем подлинней. Она вращается вокруг самой себя, всё более и более расширяет круги. Достигнув границы Ничто, жаждет границу эту прорвать.
Ничто всегда рядом, ни на миг не отступает, чаще всего принимая облик моей сестрицы, влекущей, подобно черной дыре, своей, то омерзительной, то желанной сладостью.
Ничто — ведьма, прикидывающаяся Ангелом, Нимфой, Сиреной. Но в реальности это моя сестрица, и я уверен, — она понимает степень своего ничтожества и своего везения, что у нее брат, благодаря которому она что-то значит в этой жизни. И как бы я не стремился вырваться из ее цепких когтей, мне это не удастся. Вот уж действительно женщина-вамп, с паучьей нежностью втягивающая меня в свои щупальца.
213Когда я осознал ясно и непреложно катастрофичность своего разума и предвидения, и увидел надвигающуюся катастрофу, то, несмотря на преступность желания преступить границу вменяемого мира, более того, преступность радости открытия будущей гибели мира, ощутил — не буду этого скрывать — облегчение.
Я пытался откреститься от этого, я проклинал себя за проклюнувшуюся во мне мысль, что я намеренно не создал семью и не родил детей, предал продолжение своего рода, готовясь всеми фибрами души к надвигающемуся Апокалипсису.
Когда я понял, что эта двойственность меня погубила, уже было поздно.
Внешне я оставался прежним, но внутренне уже существовал по ту сторону.
Оставалось сделать все, чтобы не навредить близким и дорогим мне людям — обрубить все живые связи с ними и с внешним миром. Но связи эти были, по сути, продолжением моих нервов и сосудов, питающих милосердие.
И, обрубив их, я впал в одиночество, как в коллапс.
Я замер, как жук, который, почуяв опасность гибели, притворяется мертвым.
Но дело в том, что в разумном существе опасность эта постоянна, неотступна, превращается в навязчивое состояние. От него нельзя просто отряхнуться.
Оно становится его сутью.
214Просыпаясь в затхлом, особенно к утру, воздухе палаты, в более, не менее, спокойном состоянии, я вновь и вновь пытаюсь с самого начала осмыслить, что привело меня к этому плачевному финалу, какие судьбоносные ошибки я совершил в жизни. Я даже пускаю слезу, но, по словам великого Пушкина, переведенным мне Лу, «строк печальных не смываю».
Гораздо ближе мне — до сердечного спазма — строки другого великого русского поэта Тютчева — я бы их поставил бы этаким, вывернутым наизнанку, эпиграфом ко всему моему существованию — до и после смерти:
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
Сочувствие всегда оказывалось на поверку ложью, тем более, чувство благодати, благоуханно распространялось апостолами, недостойными своего Распятого учителя.
Мне по духу и характеру ближе Ветхий Завет, чья строгая гениальность служила мне остовом и островом, от которого я каждый раз отталкивался, а затем вновь причаливал. Несомненно, своим гением я затронул глубинные струны человеческого существа, только каждый дергает эти струны на свой лад.
Особенно этим отличаются немцы — публика тупая и агрессивная, а в безумии еще и бессмысленная и беспощадная. Теперь, в доме умалишенных, у меня широкое поле наблюдения. И безумных и кажущихся нормальными немцев возбуждает тевтонская свирепость и звериный антисемитизм. Они, эти мерзавцы, объявят меня своим предводителем, и я — по ту сторону — ничего не смогу сделать. Вместе с Ламой, вытолкнутой в мир тем же чревом, что и я, напичканной антисемитскими бреднями вздернувшего себя мужа, оболгут меня, обольют помоями с ног до головы. Но, вероятно, это неспроста.
Несомненно, я дал этому повод, и вот, до него хочу докопаться, искренне, всей душой, веря, что истинный философ обязан самой своей сущностью и честностью перед самим собой это сделать.
Первый мой — от самого себя скрываемый — грех в том, что вычеркнув из души человеческой Бога, я оставил Творение без ее Творца, лишил мир основания и облика, который был отчеканен в человеческом разуме и душе. Душа оказалась нагой и беззащитной в «сумрачном лесу» Данте перед входом в Преисподнюю. Подобно неофиту, которому море по колено, ибо, кажется ему, что он открыл мир, еще никому неизвестный, я был охвачен эйфорией, безумным желанием — тут же нести эту весть городу и миру.
Лишь позднее я осадил коня.
Внезапная мысль резко натянула удила. С фамильярностью истины, не ставящей меня ни в грош, ударила она меня в висок: ты, Фридрих-Вильгельм, — небрежно, походя, безвозвратно лишил душу человеческую магической глубины, — одной из корневых ее составляющих.
Может, причина в том, что меня поразил вирус молодости — сука-скука? Она гнала меня страстью к перемене мест, ко всему неизведанному и неизреченному.
И Нимфы тоже — суки: подстегивали мою прыть.
Сука-лето — Лу, сука-зима — Козима.
Я, подобно праотцу Иакову, боролся с Богом.
Тот вышел хромым. Я сошел с ума.
Неужели ринувшись из одной крайности — жестко регламентированной веры лютеранина в Бога, в другую крайность — полное Его отрицание, как бросается в пучину существо, не умеющее плавать, в смертельной самоуверенности, что гибель меня минет, я, почуявший нюхом всесилие Ничто — этот ген уничтожения, — был настолько слеп и лишен чувства самосохранения?
И во имя чего? Во имя уничтожения всех принципов, на которых зиждется существование какого — никакого, но состоявшегося мира. И всем этим двигало, вероятнее всего, сатанинское чувство, вечно съедающее человеческую душу, — чувство неудовлетворенности кажущимися приевшимися принципами и заложенными в животности человека, до поры до времени скрываемой им, сдерживаемой страсти к разрушению, разгулу, разбою, распаляющему ноздри запаху пролитой крови, усиленным вырывающимся наружу хаосом стадного чувства.
Неужели и я буду причислен к философам, которые жаждали из хаоса извлечь гармонию, и были захвачены валом хаоса, который мы разбудили из лучших побуждений? Вот откуда пословица — «Благими намерениями вымощена дорога в ад».
Это старо, как мир. Это те самые грабли, на которые наступают опять и опять, пока всё живое не провалится в тартарары — в Ничто.
Так что же, я настолько был дьявольски самоуверен, что просто не принимал в расчет возмездия? Вот оно и настигло меня.
Оказывается, искренняя отчаянная исповедь не гарантирует спасение.
Вот тебе «Записки из подполья» Федора Михайловича свет Достоевского, герой которого торжественно заявляет «Свету белому провалиться, а мне чаю выпить».
А чай-то здесь пахнет лекарствами, нечистыми пальцами нянечки. Эта развившаяся в этих стенах смертельная чувствительность к запахам — больницы, борделей, дома умалишенных, завершающего череду меблирашек, в которых я провел годы отшельничества, изводит. Неужели существа, тронутые умом, источают специфический запах, или набор лекарств и процедур несет эти запахи?