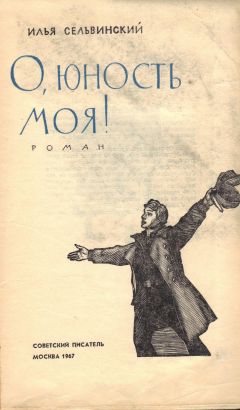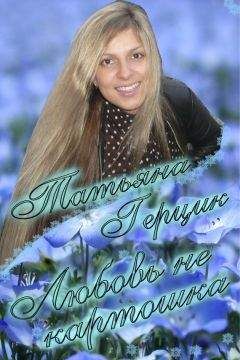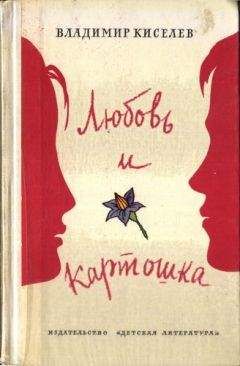Илья Сельвинский - О, юность моя!
Она решительно подошла к Елисею и распутала его узлы.
— Садись. Будешь чай пить?
— Сестра! Не сходи с ума!
— Не твое дело. Это мой друг детства.
Леська удивился, но сел за стол и получил от Розии чашку чая с лимоном. Оказывается, при всем своем высокомерии, при всей строптивости Розия очень добрая девушка. Когда Леська взял чашку, его разбухшие пальцы не удержали ее, чашка опрокинулась на скатерть.
— Ничего, ничего, — заговорила Розия скороговоркой, подбежала к Леське и стала растирать его руки.
— Ну уж это просто безобразие! — заорал Алим-бей. — Ты бы уж просто расцеловала его.
Розия сильно покраснела, нахмурилась и, стараясь не смотреть на Леську, продолжала свою работу.
Алим-бей плюнул и выбежал из комнаты.
— Розия, — тихо сказал Елисей. — Ты помнишь «Кавказский пленник»?
— Помню. |
— Ты могла бы поступить, как эта черкешенка?
Розия отшатнулась и стала глядеть на него испуганными глазами.
— Понимаю, — грустно сказал Елисей. — Одно дело чашка чаю, а другое...
Елисей встал, пошел к дивану, опустился на него, прижавшись к валику, и тихонько запел, но так глубинно, что вся грудь его гудела колоколом:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноокую девицу,
Черногривого коня.
Сначала это пение после всего, что произошло, показалось совершенно диким. Уж не сошел ли с ума этот паренек?
Но песня звучала.
— Петь не дозволяется! — сказал часовой.
— Молчи. Я тебя! — прикрикнула на него Розия и беззвучно заплакала, отвернув от Леськи лицо. Потом встала, вытащила из буфетного ящика карандаш, бумагу и быстрым, аккуратным почерком написала:
«Леся! Я всегда тебя любила, с самого детства, а если ненавидела тебя, то за то, что ревновала тебя к Гульнаре. Но я ничего, ни-че-го не могу для тебя сделать».
Эту бумажку она подала Елисею.
— Таких вещей делать не дозволяется! — сказал часовой.
— Не твое дело! У себя в тюрьме можешь заводить какие угодно порядки, а здесь хозяйка я!
— Почему вы? Это имение Сарыча.
— Мы его купили.
Елисей, прочитав записку, вернул Розии. Она порвала ее на мелкие кусочки и бросила в полоскательницу.
— Теперь мне будет легче умирать, — сказал Елисей, слабо улыбаясь.
— Почему?
— Меня много лет угнетала твоя ненависть. Я не мог попять причины.
— Что же это тебе дает?
— Одним хорошим человеком больше. Ты не герой. Ну что ж. А все-таки. Твою чашку чаю буду вспоминать и на виселице.
Розия выбежала из комнаты.
К вечеру Леську отправили в пустую кошару, задвинули засов и поставили часовым татарина: русским Алим-бей не доверял. Пошел дождь. Татарин спрятался под стреху. Вдруг послышались шаги.
— Кто идет?
— Это ты, Ягья? — спросил по-татарски старушечий голос.
— Ну, я. А ты кто?
Две женщины подошли к нему вплотную: старуха Деляр и Розия. В руках у них тарелки с чебуреками.
— Мы принесли ужин. Тебе и арестованному.
— Арестованному нельзя.
— Но ведь ему тоже надо поесть, — сказала Розия.
— Не имею права. Уходите.
— Слушай, Ягья, — сказала старуха материнским тоном. — Не будь злодеем. Допусти покормить человека.
— Уходите, а то дам выстрел в воздух, и все солдаты сбегутся.
— Ах, так? Ну, тогда вот что, Деляр: не дадим ему чебуреков.
— Ай-яй-яй! — сокрушалась Деляр, уходя вместе с Розией. — Ай-яй-яй...
Женщины ушли. Ягья опять забился под стреху, как дикий голубь, и думал о том, как вкусно пахли чебуреки. Вскоре, однако, снова послышались шаги.
— Кто идет?
— Деляр.
Старуха подошла к часовому.
— Розия рассердилась, а мне тебя жалко. На! Кушай.
Деляр отбросила салфетку и протянула Ягье тарелочку с чебуреками.
— Только ешь скорее, а то меня хватятся.
Часовой сгреб одной лапой все чебуреки с тарелки и прошамкал, набивая рот:
— А ты уходи. Здесь находиться никому не разрешается.
Деляр удалялась так медленно, что долго слышала смачное чавканье часового.
— Ну? — спросила Розия.
— Сожрал.
— Слава богу. А он не умрет?
— Не думаю.
Розия взяла книжку, прилегла на диван и принялась читать, то и дело взглядывая на стенные часы. Когда пробило двенадцать, Розия накинула на плечи пальто и, выйдя во двор, направилась к часовому. Часовой лежал у порога в полном одурении и тяжело посвистывал в обе ноздри.
Розия перешагнула через его тело, отодвинула засов и тихо позвала:
— Леся?
Елисей вышел из кошары.
— Уходи отсюда! Скорей! — зашептала Розия.
— Спасибо, Розия! Как я тебе благодарен!
Розия заплакала.
— Прощай, Леся.
— Спасибо.
Розия обхватила его шею и поцеловала в щеку. Леське представилось, что это Гульнара, и он жарко расцеловал все ее лицо.
— А теперь беги! — шептала Розия, вздрагивая.
— Постой... А как же быть с часовым?
— А что?
— Ведь его расстреляют за то, что он заснул на посту.
Розия молчала.
— Мы сделаем вот что, — сказал Елисей.
Он подхватил часового под мышки и поволок в кошару.
— Он может проснуться... — зашептала Розия. — И потом у тебя нет времени...
Часовой не проснулся: он что-то прорычал во сне, по Леська уже задвигал засов снаружи.
— Пусть подумают, будто я его оглушил, и ломают себе голову, как это могло произойти.
— Пойдем, я провожу тебя до станции. Только быстренько!
— А зачем тебе это? Я и сам дойду.
— Нет. Могут быть неожиданности, а меня тут все знают. И никто тебя не заподозрит.
Они пошли к огням станции Альма. Розия взяла его за руку и привела в темноте к маленькой калитке. Потом они перешли через рельсы и вступили на перрон.
— Ты куда поедешь?
— Не знаю. Все-таки в Симферополь. Больше некуда.
— Посиди на скамейке, я куплю тебе билет.
«Во всякой беде бывает маленькая, но удача, — думал Леська. — Все получилось, как в песне: черноокая девица и черногривый конь».
Действительно: Розня вышла на перрон в тот самый момент, когда на станцию Севастополь ворвался локомотив, окутанный черным дымом.
«До чего ж хороша жизнь!» — снова подумал Елисей и пошел Розии навстречу.
Арестовали его в вагоне.
* * *Симферопольская тюрьма гораздо обширнее севастопольской. Но Леське от этого не легче, потому что камера, в которую его вели, так же битком набита, как и в Севастополе, то же лежбище моржей на цементной льдине.
Когда попадаешь в тюрьму впервые, кажется, будто от тебя откололся весь мир. Но во второй раз уже многое знаешь и нет самого страшного: неожиданности.
Елисей остановился у косяка и спокойно стал разглядывать камеру. Нар у нее не было, зато на отсыревшей стене зеленело огромное пятно плесени, придававшее камере живописный вид. Потом Елисей перевел глаза на публику.
— Чего уставился, парень? — окликнул его близлежащий босяк, желтый и жилистый.
— Знакомых ищу.
И вдруг раздался голос:
— Леся Бредихин!
Елисей повернул голову к углу, откуда донесся зов.
— Аким Васильевич?
— Я, я! Подите к нам.
Леська, высоко поднимая ноги, шагал через тела, как журавль. Беспрозванный вскочил и, прижав Леську к груди, захлюпал:
— Извините... Проклятые нервы... Извините... Я сейчас... Знакомьтесь, Елисей.
— Здравствуйте, земляк! А кстати, это к вам я как-то пристал на Дворянской?
— Ко мне, дорогой, ко мне.
— Здорово вы меня тогда отшили.
— Еще бы! Вы могли меня погубить.
Аким Васильевич смотрел на Леську глазами, полными восторга.
— Как приятно, что вы здесь.
— Спасибо! Глубоко тронут.
— Да, да... — продолжал Беспрозванный, не уловив иронии в словах Бредихина. — Когда вы со мной, у меня всегда как-то светлее на душе.
Леська сбросил бушлат, лег на него боком и стал оглядывать соседей.
— За что тебя взяли? — спросил Елисея босяк.
— А тебя за что?
— Я украл на базаре свинью.
— А-а... У меня хуже: я, кажется, убил свинью, которая прикидывалась гусем.
— Что-то непонятно говоришь. «Гусь свинье не товарищ», — это я слышал, а в чем у тебя мораль?
— Красные разберутся.
— Ну, как стихи, Аким Васильевич? — обратился Елисей к Беспрозванному. — Идут?
— Одно написалось. Вернее, приснилось. Хотите послушать?
Леське этого не очень хотелось, но Беспрозванный и не ждал ответа. Как всегда, закинув голову, он прочитал сомнамбулическим голосом:
Сижу в тюрьме. Не раскрыли явку.
Явку не раскрыли, хоть я в тюрьме...
На стене пятно, похожее на Африку...
У меня ж одно на уме...
Думы мои сегодня узкие.
Все об одном. Все об одном.
Хнычут и плачут во сне узники,
Такие мужественные днем.
Мужество... Да... Не сразу найдешь его.
Сумей усмехнуться, идя на дно.
Мужество узников стоит недешево:
Жизни стоит оно.
Стонет блатак, здоровенный, жилистый,
Руки за голову заложив.
А пятно на стене все растет и ширится...
Как четко очерчен Гвинейский залив!
И я, засыпая, вижу себя
Под милыми пальмами Африки,
Где пляшут, строй барабанный беся,
Кафры, кафрицы, кафрики.
Но где б ни ступил, за мной по пятам
Родины голос лирический...
И вылезает гиппопотам
Из марки моей гимназической.
Проснусь. Тюремное утро горит
Во всей своей тягомотине.
Но горькая радость во мне говорит,
Что все-таки я на родине.
— Прекрасно! — похвалил Васильича профессор. — Однако тюремная жизнь явно сказалась на вашем стиле: язык определенно изменился: «блатак», «тягомотина» — это все не ваши слова. «Думы мои сегодня узкие». Прежде вы сказали бы «сегодня узки».