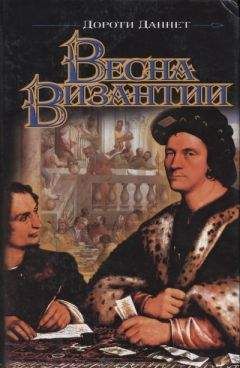Садриддин Айни - Рабы
Чайхана, освещенная сорокалинейной лампой-молнией, была полна людей.
Хамдам остановился в тени шелковицы, всматриваясь в людей, увлеченных разговорами, шахматами, чаепитием. Время от времени колхозные музыканты брали свои дудочки, бубен и двухструнные дутары, и все затихали, слушая знакомые любимые народные напевы.
Но Хамдам-форма пытливо разглядывал всех из своего укрытия.
«Нету его. Надо подождать. Он непременно придет».
Он стоял один, заслоненный деревом, и вслушивался в громкие разговоры людей.
Заговорили о достижениях и успехах, сделанных за этот день. Жаловались на промахи, упущения и помехи в работе. Делились своим многолетним опытом потомственных земледельцев и пытливых колхозников.
В каждой компании шел свой разговор, каждая пила чай из своего чайника, но Хамдам, стоя в тени, слыша разные разговоры, понимал, что хотя и за разными чайниками, в разных компаниях сидят эти люди, но разговор у них у всех один, об одном, одними заботами они озабочены, одними успехами они обрадованы, что это не различные компании, а одна большая семья, отдыхающая здесь после общей работы на своем общем поле.
Хамдам-форма уловил голос Нор-Мурада:
— У меня жалоб нет. На что мне жаловаться? Сегодня мы выровняли двенадцать гектаров земли. Она готова к пахоте, пожалуйста.
Уже Хамдам начал было вслушиваться в другой разговор, но услышал, как Нор-Мурад заговорил о нем:
— Наша бригада не только сама изо всех сил работает. Мы и за такими лентяями присматриваем, как Хамдам-форма. Злостный лентяй, но я заставил его работать…
Эти слова обрадовали Хамдама. А Нор-Мурад продолжал свое хвастовство.
— Сегодня я просто рот раскрыл, когда увидел Хамдамов арык. Он широк, как Хамдамов рот, глубок, как его глаза, гладок, как его бритый подбородок, и прям, как его нос!
Колхозники засмеялись. И Хамдам засмеялся за своей шелковицей.
Хасан Эргаш сказал, смеясь:
— Вы такой молодец, дядя Нор-Мурад, что годитесь в женихи для самой разборчивой невесты нашей.
Все повернули смеющиеся лица к Хадиче, и она, покраснев, засмеялась вместе с другими. Хамдам подумал:
«Успех успехом, но женихом Нор-Мурад не станет, а вот я могу стать женихом. Вполне могу! Но свататься пойду не к толстощекой Хадиче, а…»
И Хамдам невольно погладил и подкрутил свои усы.
«Через таких самодовольных простаков, как Нор-Мурад, я привлеку к себе доверие колхозников. Для меня откроется путь к любой работе. И тогда я обниму тонкий стан милой, стройной Кутбийи. Кутбийи! Да…»
Чуткое ухо Хамдама уловило голос Шашмакула:
— Я и прежде утверждал, что Хамдам-форма хороший колхозник. Но Сафар-ака и дядя Эргаш смеялись, когда я это говорил. Вот пускай они теперь устыдятся, слушая похвалы Хамдаму. Похвалы такого правдивого человека, как Нор-Мурад.
Сафар-Гулам ответил ему:
— Цыплят по осени считают. Осенью и увидим, каков колхозник выйдет из Хамдама. Хорошо сделать одно дело — это еще не означает, что человек стал хорошим колхозником. Колхозник должен с весны до осени и с осени до сева работать ровно, исправно, добросовестно, какое бы дело ни выпало на его долю. Вот если везде, куда его поставит колхоз, Хамдам будет хорошо работать, тогда только мы скажем — «хороший колхозник».
«Ха! — удивился Хамдам. — Я еще до осени должен работать, чтоб стать хорошим колхозником!»
Музыканты снова заиграли, заглушив разговоры.
Хамдам отошел от дерева и ушел в темноту.
«Пока Хасан Эргаш здесь, пойду-ка я разыщу Кутбийю. Надо ей рассказать о моих успехах. Пусть они подсчитывают свои достижения, а мы подсчитаем свои».
Он шел в темноте, вдоль стен, вслушиваясь в безмолвие деревенской ночи, шел так, чтоб никто не встретился ему.
На краю деревни Хамдам-форма подошел к крайнему дому.
Зашел со стороны степи и тихонько царапнул ногтем о стекло занавешенного окна.
Изнутри комнаты ему ответили таким же звуком. И занавеска приподнялась.
Хамдам пальцем написал на стекле, слегка запыленном степным ветром: «Я».
Занавеска опустилась, и через некоторое время в комнате женский голос сказал:
— Бабушка! Я схожу за Хасаном-джаном[145] в красную чайхану. Он что-то долго не идет.
По улице протекал ручей, обсаженный старыми раскидистыми шелковицами. От их больших густых ветвей ночная тьма казалась еще чернее.
Хамдам перебежал дорогу, перепрыгнул ручей и остановился на другой стороне улицы, на тропинке между ручьем и стеной.
Ночь была тиха, спокойна. Деревня безмолвна. Ни ветерка, ни шелеста. Лишь сердце Хамдама тревожно и громко билось.
Наконец скрипнула калитка.
Хамдам услышал легкие, быстрые шаги.
Прошелестел шелк платья.
Хамдам сказал:
— Я!
Она остановилась.
— Где ты?
— Здесь, под деревом.
— Где тут через ручей перейти? Ничего не вижу.
— Вот он, мостик! — сказал он, подняв руку. — Теперь вижу.
И она вошла в непроглядную тьму под дерево.
— Кутбийа, моя дорогая!
Приблизив свое лицо к лицу Хамдама, Кутбийа зашептала:
— Пусти. Он может увидеть!
— А ты его еще любишь? Еще послушна ему?
— Я и тогда его не любила, и теперь не люблю. Но пока с ним не разойдусь, должна быть послушной, иначе провалится все дело. Садись! Время идет. Он скоро вернется.
Хамдам сел под дерево, обняв Кутбийю. Она прижалась к нему.
Приглаживая ее волосы, выбившиеся из-под шелкового платка, Хамдам говорил:
— У тебя комнаты с окнами и печками, железная кровать с пружинами, платья из бухарских шелков, шелковые платки и шали, шелковые чулки и лаковые туфельки, и всего этого у тебя с каждым днем становится больше. И твои стройные ножки хотят хорошо обуваться. Твои черные волосы привыкли к шелковым платкам, твое шелковое чело… О Кутбийа! У меня темнеет в глазах. Сердце разрывается: разве ты бросишь все это?
— Успокойся. Ну! Успокойся! Всем этим можно соблазнить рабыню. У кого не было ничего, тому это соблазнительно. А я — дочь Уруна-бая. У отца в доме двенадцать комнат. Чем соблазнит меня этот русский дом, эти шелковые платья? В отцовском доме я носила платья, шитые золотом.
— Чем же Хасан тебя соблазнил?
— Когда настало тяжелое время, я решила спасти своих. Решила выйти за партийца или за комсомольца. Простодушнее всех мне показался Хасан. Я и завлекла его.
Кутбийа вздохнула.
— А вышло, что не он попался, а ты попалась сама.
— Да. Верно. Он сказал: мне твое социальное положение не подходит. Тогда я, с согласия родителей, ушла от них к тетке. И спросила Хасана: «Теперь подходит?» Он ответил: «Если дашь слово начисто и во всем с ними порвать, тогда подойдет». Я пообещала. Я думала, что, когда мы положим головы на одну подушку, он станет сговорчивей.
— И что же?
— Откуда ж мне было знать, что его сердце не простодушно, а твердо, как камень? Как камень! Крепче камня!
Она помолчала. Хамдам слушал напряженно, а сердце его опять билось громко и тяжело.
— Я выказала ему любовь. Он тоже. Даже горячее, чем я. Но чем больше я притворялась влюбленной, тем сильнее и сердечней раскрывал он свою любовь.
— А если любовь его сердечна, что же он хорошего сделал для твоей семьи?
— Как бы он ни любил, как бы горяч ни был его порыв, стоило мне заговорить о своем отце, он мгновенно бледнел от такой злобы, что, если я тянулась к нему, он отбрасывал прочь мои руки, отталкивал меня и вставал: «Наша любовь только до этого разговора. Ты дала слово об этом не говорить. Нарушишь свое слово, и я свое нарушу. Не пеняй на меня». И опять нужно было немало сил, чтоб его успокоить, чтоб его оставить с собой, чтоб он не уходил. Так и не смогла ничего добиться. Он из железа. Его не перемелешь, словами не прошибешь. Лживыми ласками не проймешь.