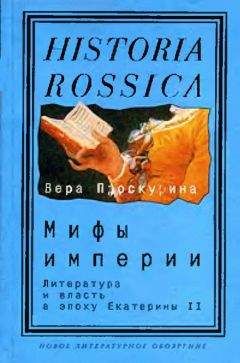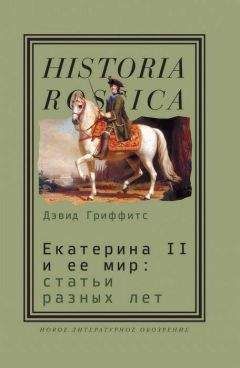Ариадна Васильева - Возвращение в эмиграцию. Книга первая
Да, жизнь в Париже с каждым днем становилась все хуже и хуже. Но люди становились смелей. Зародилось, ширилось Сопротивление. На Лурмель стало приходить больше народу. Не столько в церковь, сколько потолкаться во дворе, узнать новости из достоверного источника. Я часто заставала Юру или матушку, окруженных молчаливым кольцом внимательных слушателей. Происходящего в нашем доме было вполне достаточно, чтобы вызвать лютый гнев оккупантов. Но пока, как говорится, Бог миловал.
29 апреля 1942 года я почувствовала себя плохо. Началось в середине дня. Помалкивала, прислушивалась к себе. Вдруг только кажется. Но время пришло, дитя запросилось вон. После комендантского часа опоясало болью, рвануло вниз и почти сразу отпустило. И, как назло, взвыли сирены. Тревога!
— Ах ты, господи, — вконец расстроился Сережа, — приспичило тебе.
— Так ведь они не спрашивают! — рассердилась я и села в полной растерянности.
— Что же делать?
— Может, отпустит…
Он сел рядом, не сводя с меня глаз. Грустно улыбнулся и продекламировал:
И изумленные народы
Не знают, что им предпринять –
Ложиться спать или вставать?
— Ох, нет, вставать!
У меня все было наготове, мы оделись и вышли на улицу.
Тревожное лицо его возле моих глаз:
— Как ты? Что ты?
— Ничего… Давай постоим немного.
Я глубоко вздохнула и оперлась на стену. Схватило. Потом отпустило.
— Пошли.
Так бы мы и добрались до госпиталя, если бы не попавшийся навстречу ажан.
— Это что такое? Куда вас черт несет? А вот я вас арестую за хождение по городу в неположенное время! Два человека! Во время бомбежки!
— Три. Три человека почти, — стиснула я зубы. — И плевать на бомбежку!
Он пригляделся ко мне, испугался.
— Бог мой! Что же делать, мадам? Я очень сожалею, но по закону военного времени я обязан вас арестовать.
— У вас будут неприятности, — предупредила я. — Арестуете двоих, а выпускать придется троих.
— Мадам, я ценю ваш юмор, но…
Сережа вступил в переговоры с ажаном.
— Хорошо, — горячился ажан, — я вас отпущу, вы пойдете, а навстречу немецкий патруль!
Шагах в десяти прозвенело, будто кто из пригоршни высыпал железяки.
— Вот видите, — показал он в ту сторону, — еще и это.
Ажан сердито почесал затылок, сдвинул на глаза глянцевый козырек фуражки. Поправил, сердито посмотрел на меня.
— Хорошо. Дальше пойдем вместе, я доведу вас до госпиталя, а потом арестую одного вашего мужа за хождение по улицам во время воздушной тревоги.
— И комендантского часа, — напомнила я.
— И комендантского часа! — рассвирепел ажан.
Они подхватили меня с двух сторон, и повели дальше. До госпиталя оставалось еще два квартала. Чем ближе становилась цель, тем громче пели осколки. Казалось, они падают прямо с неба. Тогда мужчины прижимали меня к стене дома, заслоняли и с тревогой смотрели вверх.
В госпитале нас приняли с причитаниями: «Ай, ай, как же так, во время тревоги!» — захлопотали, повели рожать. А Сережа и ажан бегом добежали до участка и всю ночь потом резались в белот, самую утешительную карточную игру во всяких непредвиденных жизненных ситуациях.
Мой ребенок появился на свет рано утром, когда только-только заголубело небо за окнами. Пожилая акушерка сказала:
— Родилась девочка.
Я приподняла голову:
— Не может быть — мальчик!
Акушерка возмутилась:
— Как это — не может быть! Что же, я, по-вашему, слепая? Пожалуйста, смотрите сами — девочка.
И поднесла к моему носу что-то красное, жалобно пищащее — мяяя! мяяя!
— Что же вы мне попкой суете — вы личико покажите!
Акушерка засмеялась и унесла девочку к специальному столику, там стала с нею что-то делать.
Через некоторое время меня отвезли в небольшую трехместную палату, а еще через два часа сестра принесла белый сверток с выпростанными поверх пеленок ручками в бумазейных рукавичках. Сестра доверительно улыбалась:
— На редкость хороший и спокойный ребенок.
Она приложила на редкость спокойного ребенка к моей груди и ушла, а две соседки потянулись смотреть на нас. Девочка деликатно помусолила сосок, повела в никуда неопределенным взглядом и закрыла глаза.
— Она не ест! — испугалась я.
— Не бойтесь, — прошептала рыженькая, вся усыпанная веснушками, соседка, — они ее накормили. Они принесли, чтобы девочка сразу привыкала к груди.
Позже сестра забрала ребенка и уложила в колыбельку в ногах кровати. Это было рядом, в одной комнате, но показалось, будто отняли целое состояние.
Под вечер пришел Сережа, обидно разочарованный бесславным исходом дела. Он с таким нетерпением ждал сына. Смотрел недоверчиво и даже враждебно на крохотное создание.
— Вы странные люди, мужчины, — обиженным голосом выговаривала я, — вам подавай одних мужиков, а нам хоть на свет не рождайся.
Он стал оправдываться, согласился назвать девочку Викторией, в честь сестры, потом его попросили уйти. Я жалобно посмотрела на своих соседок.
— Это бывает, — уверяли они меня, — многие мужчины поначалу боятся новорожденных, но не хотят показывать. Вот увидите, ваш будет прекрасным отцом.
В госпитале я хорошо отдохнула и подкормилась. Первые дни, пока врачи не разрешали вставать, вторая соседка, еще не родившая, украдкой от сестер вынимала детей из колыбелек и приносила нам. И мы любовались на своих деток, смотрели подолгу, привыкая.
Приходили навестить нас тетя Ляля и Татка. Тетя Ляля, позабыв обо всех предостережениях, наклонялась над внучатой племянницей, приговаривала:
— Ты моя маленькая, ты моя хорошая, Ника ты моя Самофракийская!
Самофракийская сморщилась и чихнула. С легкой руки тети Ляли мы стали звать Викторию Никой.
Через две недели нас отпустили домой. Перед уходом сестра долго учила пеленать младенца.
— Смелей, смелей, — подбадривала она меня, видя, как я копаюсь.
И вдруг, к великому моему ужасу, взяла мою девочку за ножки, перевернула вниз головой, ловко подхватила за грудку и подняла.
— Вот мы какие!
На короткой шейке качалась неуверенная головка, силилась подняться и удержаться в нормальном положении.
Посреди комнаты мы поставили на двух табуретках большую бельевую корзину из ивовых прутьев. Положили внутрь заранее приготовленный тюфячок, застелили белым — получилось уютное гнездышко. Обитатели дома приходили знакомиться, и я страшно гордилась таким вниманием.
Нежданно-негаданно пришла навестить новорожденную Миля. Я думала, она давно бежала из Парижа, а оказалось — нет. Миля восхищалась Никой, нянчила, носила на руках, но была грустна.
— Какая ты счастливая, Наташа! — говорила она, не отрывая глаз от ребенка, — а я вот пришла прощаться. Боюсь дольше оставаться в Париже. Мы хотим… я и еще одна девушка, тоже еврейка, хотим перейти в свободную зону. Сейчас многие переходят. Говорят, это не так уж сложно.
Мы стали ее отговаривать.
— Попадешься. Одна, без помощи. Уж лучше тогда остаться.
— Нет, — отвергла она наши уговоры, — я решила. Раиса Яковлевна звала с собой, они где-то на севере, но мне было неловко навязываться, я не поехала. А теперь поздно… А Вилин муж погиб, знаете?
Миша не успел уступить дорогу немцу, и тот застрелил его в упор прямо на улице. Это случилось накануне отъезда Стерников.
— Такие дела, — уложив Нику, села напротив меня Миля, — такие дела. И пока мне не нацепили звезду, я попытаюсь уйти.
Мы предложили обратиться к матери Марии. Пусть бы ей тоже выдали свидетельство о крещении. Миля покачала головой.
— Нет, ребята. В какой вере родилась, в такой и умру. Если уж суждено умереть. Да и не в этом дело. Не такая уж я верующая.
— А в чем?
Миля поднялась, походила по комнате, встала у окна. Отогнув занавеску, смотрела на улицу.
— А я не хочу ни от кого скрывать, что я — еврейка. Почему я должна скрывать? Почему это должно быть позором, что ты — еврей? А я, например, горжусь. Да, я еврейка! И только за это меня могут убить? Пусть. Но пусть убьют еврейку. И пусть потом все, кто сейчас спокойно взирает на это, сочтут и меня в списке убитых!
— Миля, Миля, — хватался за голову Сережа, — о чем вы говорите! Что за мысли о смерти! Если можно спастись, надо спасаться, а не рассуждать.
— К великому моему сожалению, я и спасаюсь. Я для того и хочу перейти в свободную зону, чтобы спастись. Вы думаете, я их не боюсь? Я их панически боюсь. Мне даже стыдно, как я их боюсь. Но цеплять на себя звезду, молчаливо соглашаться, что я человек второго сорта, не стану. Уж лучше как Миша. Взять и не уступить дорогу.
— Ты думаешь, он сделал это специально?