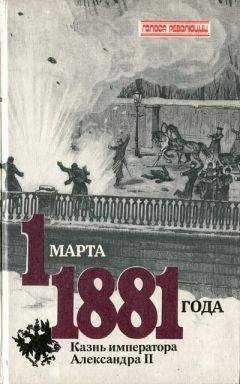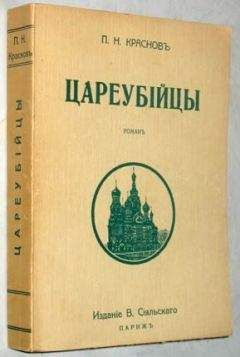Эдуард Зорин - Богатырское поле
Тогда Никитка подымался в мастерскую, брал в руки зубило и молоток и неистово бил по камню. Из камня вырисовывались страшные зубастые твари. Твари мерещились ему по ночам. Утром он снова сидел подле мастера.
На гусари небо заволокло тучами, пошли проливные дожди. Дороги раскисли, почернели избы и заборы, над Клязьмой на много дней повисла молочная мгла.
В один из таких сумрачных дней и появился во Владимире Радко. Остановиться негде, корчма сгорела в пожары, — вот и пришлось заворачивать к Левонтию.
Отворив ворота, Никитка не узнал его: сидит мужик в телеге, накрывшись мешком, из-под мешка торчит борода. Лишь когда Радко заговорил, вспомнилось старое, — кинулся он к скомороху, как к родному.
Никитка искал взглядом Карпушу с Маркелом, но ни Карпуши, ни горбуна в телеге не было.
— А где же… — начал было он, но осекся: никак, беда стряслась с Карпушей?
Радко догадался, грустно сказал:
— Карпуша нынче рядом с князем, взял его Всеволод в меченоши. А Маркела Нерадец, старый знакомец наш, в лесу порешил. Аль не слыхал?
— Вот оно как. Мир его праху, — грустно сказал Никитка. Телега въехала во двор.
На крыльце стояла Аленка. Она уж слышала, как толковали за воротами мужики, — радость так и струилась из ее глаз.
Поставив лошадь к забору и подвесив ей мешок с овсом, Радко поднялся на крыльцо, обнял Аленку. От скомороха пахло костром, лесной смолой. Был он все так же могутен, только плечи слегка обвисли да в глазах задержалась грустинка. Прижавшись к его груди, Аленка всплакнула.
Потом Радко умывался. От дождя в кадушке плясали веселые фонтанчики.
— Вот те и времечко, — говорил скоморох, утираясь широким убрусом. — Даром что лето было пожарное. По приметам, зиму жди с большими снегами…
Вечером он сидел возле Левонтия, тешил его байками о кочевой жизни. Левонтий оживился — должно быть, вспомнил свою молодость. И он немало постранствовал по свету, много повидал на своем веку чудес. Вот теперь только лежит на лавке. Но голова у Левонтия ясна, полна радужных задумок. Задумки и спасают его от беды; если бы не задумки, нешто так вот цеплялся бы за жизнь?! Вся жизнь его — в белом камне. Чудную песню оставил он людям. Звучит его песня над Клязьмой — от Владимира до Боголюбова. А видится ему песней все зеленое Залесье…
Шли дожди, серыми каплями стекали по слюдяным оконцам. За оконцами мгла, бьет в терема холодным ветром, раскачивает подгнившие частоколы. Но о зиме еще думать рано, еще будут ясные дни, и солнце будет, и малиновые закаты, и синяя скатерть просторного неба.
Скосив глаза на мутное оконце, Левонтий думал: «Как она там, моя красавица на Нерли?.. Стоит ли, не склонилась ли под мокрыми облаками?..» И хоть знал, что стоит, а вдруг забеспокоился. Вдруг защемило сердце безутешной печалью. И понял он: уйдет ли мастер из мира, не взглянув напоследок на свое любимое детище? Отсюда и тревога, отсюда и печаль.
А что до дела начатого, то оно в верных руках. В Никитку Левонтий верил. Теперь уже видел: большому мастеру передал свою кровинку, будет жить она в веках, переходить от сына к внуку, от внука к правнуку. Неизбывна любовь к родной земле, крепко держится она в русском человеке.
И первым же светлым днем отвез Никитка Левонтия в Боголюбово. Бережно вез, в высоком возке, приподняв голову мастера на пуховых подушках. По улицам Владимира вез, — останавливался народ, почтительно расступался перед возком, иные земно кланялись, осеняли мастера крестом. Проплыл перед затухающим взором Левонтия собор Успения божьей матери, блеснул ему в глаза золотым шеломом; склонились над ним Серебряные ворота, замерли в суровом молчании.
За Серебряными воротами встретилась возку с Левонтием княжеская дружина — расступилась. Князь Всеволод сошел с коня на грязную дорогу, долго шел рядом с возком, молча глядел на Левонтия. А потом лошади дернули, князь отстал, и возок вырвался на широкий зеленеющий простор. А на просторе том, будто изготовясь к полету, стояла белокаменная церковь. Вот-вот взмахнет она белыми крыльями, вскрикнет по-лебединому и взмоет в небо, чтобы присоединиться к стае отлетающих на юг печальных птиц.
Нет, не на лебедь похожа она — на русскую женщину. Стоит на лугу и ждет мужа, прислушивается к стуку конских копыт… Веками простоит — ее ли учить терпению?..
Приподнялся Левонтий на подушках, распахнул глаза, будто вбирая в себя необъятную ширь, — вздохнул и умер…
Тем же вечером в тесной келье монастыря в Суздале сидел, склонившись над столом, Чурила и, поскрипывая пером, мыслями обращался к потомкам. Не забыл, вспомнил о своем разговоре с монахом князь Всеволод. Тотчас же после битвы призвал к себе Чурилу и велел возвращаться в Суздаль.
— Видишь, монах, этот собор? — указал он на шлем Успения божьей матери. — Стоять ему века. Но бессмертнее камня слово русское. Ибо жив и жить будет вечно русский человек…
Собирая по крохам неустойчивую память, писал Чурила о Руси, о мужестве и горе народном, о реках пролитой крови, о коварстве князей. И виделась ему несметная рать, щитами отгородившаяся от степи в богатырском поле. Но в сердце жили другие строки. Они исподволь зрели в нем, прорастали золотыми колосьями:
Тяжело Руси от распрей княжьих,
Потому что говорит брат брату:
«Это все мое, мое и это…»
Из-за малых слов горели злобой
И ковали на себя крамолу…
Его ли это слова? Может, и не его. Может, слышал он их, когда дрался с половцами, когда ломались мечи и копья и падали наземь люди. А может, он их подслушал у костра на ночном привале? Не тот ли молодой вой из дружины Ромила пропел их ему, а на следующее утро его схоронили в степном кургане?..
За стенами монастыря уже стучали копытами вражьи кони, и люди при свете факелов брались за мечи и подымались на городские валы.
Огни пожарищ охватывали равнинное ополье. Опершись о копья, мужики сурово вглядывались в тревожную, грозовую ночь…
Конец первой книгиСловарь старинных и малоупотребляемых слов
Бахтарма — изнанка кожи.
Бирич — глашатай.
Буравок — кузовок, лукошко.
Вадега — омут.
Вежи — крепостные башни.
Веретень — расстояние на пашне между точками поворота сохи.
Востола — грубая домотканая материя, дерюга.
Галица — клуша.
Голомень — плоская сторона меча.
Городницы — городские стены; срубы, заполненные землей.
Дворский — должность при дворе князя.
Дибаджа — шелковая одежда (персидское).
Дроводель — лесорубка.
Едома — лесная глушь.
Зарев — август.
Заселшина — деревенский житель, невежа.
Заход — отхожее место.
Зернь — игра в кости или в зерна.
Кокора — бревно с корневищем.
Коник — лавка в крестьянской избе (в передней дома).
Корзно — плащ (обычно княжеский).
Крица — глыба вываренного из чугуна железа.
Кроп — укроп.
Кузнь — металлические вещи холодной ковки.
Кукуль — колпак.
Молица — мякоть дерева, суррогат пищи в голодовку.
Обель — холоп, раб.
Одрины — сараи.
Охлуп — конек крыши.
Паракимомены — высшая придворная должность в Византии.
Перевесище — сеть для ловли птиц.
Персевой плат — шаль.
Подток копья — тупой, окованный железом или медью конец копья.
Поруб — яма со срубом, куда сажали пленников.
Потаковка — ковшик, черпачок; потаковкой пили мед из ендовы.
Резы — ростовщические проценты.
Робичич — сын рабыни (робы).
Роздерть — поднятая из-под лесу целина, роспашь.
Ручечник — ткач.
Сироты — зависимые поселяне.
Сокачий (сокалчий) — повар.
Столец — княжеское кресло.
Стрый — дядя.
Сукмяница — суконное одеяло.
Тезик — купец из Средней Азии.
Топотериты — ночная стража.
Требище — кумирня, языческая божница, жертвенник.
Трок — верхняя подпруга, широкая тесьма на пряжках сверх седла.
Убрус — полотенце, платок.
Укроп — горячая, теплая вода.
Укруг — ломоть (хлеба).
Усцинка — вид ткани.
Ферязь — верхняя мужская одежда без воротника.