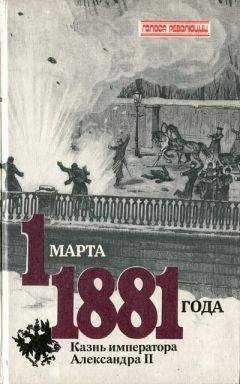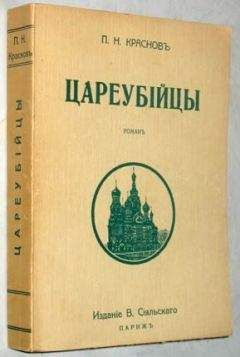Эдуард Зорин - Богатырское поле
Неожиданно дверь отворилась — человек ждал по ту сторону — и из ее черного зева послышался раздраженный голос Мокея:
— Неча бренчать. Пошто будите середь ночи?
Аверкий пританцовывал, будто на копытцах, заблеял тоненьким голоском:
— Здесь она, здесь хозяюшка.
— У, мразь, — выругался Мокей и плечом придавил дверь. — Добром не пущу. Слышь, Склир, — обратился он к меченоше, — ступай отсюда поздорову.
Он нагнулся — в руке его блеснула железка. Аверкий, как кузнечик, отскочил Склиру за спину, подталкивая его сзади, закричал:
— Ты меня не тронь: я — староста.
— А по мне что староста, что собака, — сдавленным голосом отозвался Мокей и взмахнул железкой.
Склир качнулся в сторону, увернулся от удара, выхватил меч. Вои, словно гончие, вцепились Мокею в руки. Кузнец отталкивал их, по-медвежьи рыча.
— Душегуб ты, боярский прихвостень, — ругался он и, вскидывая голову, плевал в лицо Склира.
— Молчи! — пригрозил меченоша.
— Остер топор, да и пень зубаст, — с неожиданным отчаянием и угрозой в голосе выкрикнул Мокей. Вои туго вязали его веревками. Сильное тело кузнеца противилось им, набухало узлами.
— Крепче, крепче пеленайте, — командовал Склир.
Спеленав, Мокея отволокли к домнице, бросили на холодные комья высушенной руды. Склир вошел в кузню, но пробыл там недолго. Быстро вернувшись, он склонился над кузнецом:
— Куда девку спрятал?!
Корчась в веревках, Мокей засмеялся:
— Что, изломали Мокея? На Руси не все караси — есть и ерши…
Так и не доставил Склир боярыне Любашу. С тех пор никто ее не встречал ни во Владимире, ни в Заборье. Всех перехитрил Мокей, да сам угодил в Давыдкин поруб.
Когда Давыдке сказали об этом, он изменился в лице, хотел, чтобы освободили кузнеца, но у Евпраксии начались роды. Так за тревогами и забыл о Мокее.
В тот день у боярыни родился сын, которого нарекли Василием. Под вечер это было. А утром Давыдка со Всеволодовой ратью двинулся через Серебряные ворота в поле навстречу Мстиславу.
Глава одиннадцатая
Не думал Добрыня, встречая рассвет у Юрьева, что рассвет этот будет последним в его жизни. На долгую жизнь собирал боярин серебро и золото, на долгую жизнь расставлял по лесам и угодьям свои знамена, на долгую жизнь строил высокие хоромы в Ростове и Ярославле. А все кануло разом: прилетела из-за речки стрела, пробила боярскую закаленную кольчугу, впилась в боярское сердце — и потемнел вокруг белый свет, перевернулась и встала на дыбы земля. Упал боярин в траву, упал и забылся вечным сном.
Еще вчера гордо встречал Добрыня, стоя рядом с Мстиславом, владимирских послов, передавших молодому князю Всеволодову грамоту.
«Когда ростовцы призвали тебя к себе на княжение, — писал Всеволод Мстиславу, — и как оный град есть старейший во всей сей области, и отец твой при отце нашем владел, то я тебе оставляю, если тем доволен хошь быть, а меня как призвали владимирцы и переяславцы, то я тем хочу быть доволен. Суздальцы же как ни тебя, ни меня не призывали, оставим вообще обоим нам или оставим на их волю, кого они из нас похотят, тот им буди князь».
— Хорошо медведя из окошка дразнить, — сказал Мстиславу Добрыня. — Гони Всеволодовых послов, не слушай их речи. Хитер Всеволод: глядит лисой, а смердит волком.
Большую обиду затаил Добрыня на молодого Юрьевича. Подбил своими речами и других ростовских бояр. Матиас Бутович и Иванок Стефанович были с ним заодно. А прочие, неродовитые, глядели им в рот: что скажут эти трое, так тому и быть.
Добрыня предупредил Мстислава:
— Смотри, князь. Хотя ты мир со Всеволодом учинишь, но мы ему мира не дадим.
И Мстислав сказал Всеволодовым послам:
— Скажите Всеволоду, если хочет мир иметь, то бо сам приехал ко мне.
Не приехал Всеволод к Мстиславу, не стал кланяться ростовским боярам. И тогда сошлись полки на Юрьевском поле, и первая же стрела с того берега угодила в Добрыню. Стрела — дура: в кого попадет, не ведает. Но из тысячи других встала на ее пути мягкая боярская грудь.
Упал боярин в траву, забылся смертным сном, а по широкому полю уже спешили навстречу друг другу взмыленные кони. Схлестнулись две лавины, столкнулись щиты, скрестились мечи и копья. Смяли переяславцы Мстиславово правое крыло, не запятнали своей чести и владимирцы с суздальцами.
Звенели над притихшим боярином топоры, храпели люди, падали в лужи скользкой крови. Не видел боярин, как дрогнула Мстиславова рать, не видел и того, как сам молодой князь бежал с поля брани, оставив и дружину свою, и верных своих бояр.
А ведь еще вчера похвалялся Мстислав:
— Порубим каменщиков — велю перенести стол в Ростов.
Делил Мстислав незавоеванную землю:
— Тебе, Добрыня, отдам Гороховец, отберу землю у церкви Успения божьей матери, Микулицу свезу на вече в железах. Тебе, Матиас, пожалую угодья за рекою Воршей. Не забуду и тебя, Иван…
А ныне все бояре полегли у Юрьева. Серым волком, таясь людского глаза, скачет Мстислав в Великий Новгород. Новгородцы люди вольные, но сердце у них доброе: простят князя, дадут хлеб и кров. Да и Ходора, чай, не чужая, заступится перед отцом за непутевого мужа.
…Лежит боярин Добрыня на бранном поле, а еще недавно обещал ростовскому епископу:
— Вот воротимся из Владимира со щитом, закажу колокол не хуже, чем в Киеве. Пусть звенит малиновым перезвоном: хорошо, привольно живется боярству на Руси. Не дозволим княжеским дружинникам и каменщикам хозяевать в наших усадьбах…
Так говорил Добрыня епископу, и не знал уж он, что, воротясь с почестями во Владимир, совсем другое говорил Всеволод протопопу Микулице:
— Гляди, Микулица, — широка, раздольна наша земля. Силушка в ней необъятная. А раздирают ее усобицы; топчут конями поганые половцы. Вот погоди, встану твердо над Клязьмою, поверну к Клязьме и Днепр, и Волхов, и Оку…
А Микулица трусил рядом на пегой кобыленке и улыбался, заслонясь ладошкой от яркого солнца:
— Хлеба нынче, князь, взошли хорошие, травы на лугах подымаются сочные… Ты про землю нашу, князь, говорил добрые слова. Согласному стаду волк не страшен. Две головни и в поле дымятся, а одна и в печи гаснет.
— Поставлю церковь над Клязьмою…
— И то добро, княже, — вторил ему Микулица.
— К Дышучему морю пошлю купцов. Торговать буду с Булгаром и с Хорезмом.
— Хорошо бы, ох как хорошо бы, князь, — подзадоривал Всеволода Микулица, и пегая лошаденка его прядала длинными ушами.
А Всеволод размечтался:
— Свезу мастеров во Владимир, златокузнецов и гончаров, лучших оружейников, лучших бронников, лучших мостников, лучших кожемяк…
— Чать, и свои не хуже, — возражал ему взопревший на солнышке Микулица. — Мастеров на стороне нам не занимать…
Нет, не слышал их мирной беседы боярин Добрыня. Лежал он в поле, и оперенный конец стрелы торчал из его груди. А в небе над боярином плыли белые облака, и мужики с бабами в деревне за рекой окликали весну. На солнечном закате выходили они играть в хороводы. «Весна-красна, ты когда, когда пришла, когда проехала», — пели они, собираясь на пригорках и обмениваясь желтыми яйцами. Пили мужики хмельную брагу, плясали и щупали баб.
Не видел, не слышал их именитый ростовский боярин Добрыня Долгий. Смертный снег смежил его веки, остекленил глаза.
Пройдет ночь, наступит новое утро — и остановятся над ним мужики. Неторопливо поскребут в затылках и скажут:
— Да, важный был боярин. Броня-то с золотой насечкой.
А после Добрыню отвезут в Ростов. И епископ, давний друг его, держа в дрожащих руках псалтырь, прочтет над ним отходную молитву.
Безутешно будет плакать над его гробом Валена (так и не станет она княгиней), будет с завистью и темной злобой глядеть из толпы, как въезжает в Ростов владимирский князь Всеволод, как подносят ему ключи, а девки украшают коня его венками из синих васильков.
Не увидит Всеволод в толпе Валену, потому что взгляды его будут обращены совсем в другую сторону — к украшенному красной и черной резьбой возку, в котором проедет за княжеской дружиной молодая боярыня Евпраксия, еще более похорошевшая после родов, а рядом с ней будет сидеть толстая девка с красным лицом и на виду у всех кормить щедрой грудью пухлого младенца.
Не много воды утечет с того дня, а многое переменится. И ничего этого не увидит боярин Добрыня, и, может быть, к лучшему, — все равно не перенес бы он великого позора. Ушел бы от мира в монастырь или сбежал бы в леса.
И да будет земля ему пухом.
2В избе у новгородского посадника Якуна просторно, на полу — медвежья новая шкура, на лавках — мягкие ковры, дощатые стены натерты воском. Везде порядок, уют, хоть и живет Якун без хозяйки. Давно померла жена, а новой в дом не привел: пришлая девка управляется с хозяйством.