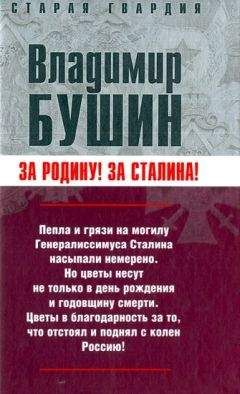Владимир Бушин - Я всё ещё влюблён
Ранние ноябрьские сумерки опускались на Лондон. Справа за Хэмпстедскими холмами дотлевал бледный закат. Туда, к холмам, к еще не закрытым светлым воротам заката по небу плыла длинная гряда облаков. Энгельс остановился, чтобы передохнуть, и повернулся лицом к закату. О эти Хэмпстедские холмы! Сколько раз в летнюю пору, по воскресеньям, вся семья Маркса в непременном сопровождении кого-нибудь из друзей отправлялась на их зеленые просторы! Какие это были веселые и беззаботные прогулки!.. Энгельсу не так уж часто доводилось бывать их участником, но они навсегда запомнились ему неповторимой атмосферой большой дружной семьи, решительно отринувшей от себя на один день все труды, заботы, тяготы.
Энгельс долго смотрел на гряду облаков, которая, медленно меняя, прихотливые очертания, все плыла и плыла к холмам. Вдруг в какой-то момент ее контуры стали такими, что показались близоруким глазам Энгельса странно знакомыми, очень сильно на что-то похожими. На что? Он напряг зрение, всматривался, всматривался, и наконец его озарило: гряда облаков напоминала ту самую, давнюю воскресную процессию, направлявшуюся на Хэмпстед-Хис! Ну да, конечно, вон впереди, взяв за руки маленькую Женни и еще меньшую, почти круглую Лауру, шагает высокий Либкнехт; за ними кто-то из гостей; а вот и ядро процессии — плотный Карл, изящная Женни и еще кто-то, тоже, видимо, из гостей, но этот гость солидней, важнее, чем первый, и Карл повернул к нему гривастую голову, внимательно слушая; замыкают шествие ладная фигура Елены и еще один гость, худой до прозрачности, он помогает ей нести огромную корзину со съестными припасами, — должно быть, кто-то из несчастной эмигрантской братии, и вероятно, так голоден, что весь изогнулся над корзиной и едва не сует в нее свой прозрачный нос… Ах, эта корзина! В ней всегда хранились прекраснейшие вещи! Освященный традицией огромный кусок жареной телятины, хлеб и сыр, чай и сахар, а иногда и креветки или устрицы, а то даже и фрукты…
С каким нетерпением и страстью все мы, особенно молодые прожорливые эмигранты, бросали взгляды на эту корзину! По тому, кто добивался чести помогать Елене нести корзину, можно было заключить, кто из нас самый голодный…
Но тут в небе произошло движение, в гряде облаков что-то перестроилось, изменилось, и вот уже нет ни Карла, ни Женни, ни гостей, только Елена, отобрав у помощника корзину и поставив ее на плечо, все спешила и спешила по темнеющему небу к воротам заката, которые становились все ниже и уже.
Энгельс закрыл глаза — ему не хотелось наблюдать, как видение исчезнет совсем, он был бы рад навсегда сохранить его в памяти. Постояв минуту, он повернулся и, только тогда открыв глаза, снова пошел. Минут через пять он все-таки еще раз взглянул на небо, будучи уверен, что там уже все рассеялось. Но он ошибся. С корзиной на плече Елена все шагала к Хэмпстедским холмам, к почти исчезнувшим воротам заката. И он уже не захотел закрывать глаза, отворачиваться, а смотрел и смотрел, пока Елена не ушла так далеко, что ее совсем не стало видно…
Как ни тягостно рисовалось Энгельсу возвращение в осиротевший дом, на самом деле оно оказалось еще тяжелей. Не зажигая света, он снял шляпу, пальто, бросил их на диван в прихожей и прошел в кабинет. Здесь он долго сидел в темноте у письменного стола, потом зажег лампу, пододвинул к себе бумагу и взял перо. Хоть мысленно он должен сейчас с кем-то поговорить — одиночество было нестерпимо. С кем же? Ну конечно, с Беккером, — старый боевой товарищ, он не раз бывал в доме Маркса и прекрасно знал Елену, — как никто другой, он поймет его сегодняшнее состояние. «Дорогой Иога…» — начал было писать Энгельс, но вдруг бросил перо и стукнул кулаком по столу. Что это с ним? — ведь уже четвертый год, как старик Иоганн умер! Как мог он об этом забыть? Или смерть Елены размыла в его сознании черту, отделяющую мертвых от живых? Или это видение, что прошло перед ним по закатному небу, оживило в его памяти всех дорогих усопших?..
Энгельс встал и несколько раз прошелся из угла в угол. Потребность сказать кому-нибудь хоть слово оставалась такой же острой. Он снова сел к столу и взял перо. Решил, что напишет в Америку — Зорге. Сообщив о смерти Елены, рассказав о ее похоронах, он написал: «Мы с ней были последними из старой гвардии до 1848 года». Поставив точку, Энгельс почему-то ощутил странное чувство: словно когда-то такую фразу он уже говорил. Да, конечно, как раз Беккеру он писал на другой день после смерти Маркса: «Теперь мы с тобой, пожалуй, последние из старой гвардии времен до 1848 года». Вспомнив эти слова, Энгельс с досадой и сожалением подумал, что тогда не имел права так говорить: ведь была еще Елена! Хотя написанная сейчас фраза почти дословно повторяла фразу из письма семилетней давности, Энгельс ничего не стал поправлять: уж теперь-то каждое слово тут стояло на месте, действительно они с Еленой были последними…
Он обмакнул высохшее перо и продолжал: «Теперь я снова одинок. Если в течение долгих лет Маркс, а в эти семь лет я могли спокойно работать, то этим мы в значительной мере обязаны ей. Что будет теперь со мной — не знаю…» Энгельс провел рукой по уставшим глазам, в сознании всплыла картина похорон, вспомнились слова своей речи, он дописал: «Мне также сильно будет недоставать ее исключительно тактичных советов в партийных делах».
Она снова встала перед ним — на этот раз в двух обликах. Вот она — опять молодая, улыбающаяся, статная, какой он увидел ее впервые в Париже. А вот — уже в годах, отяжелевшая, хотя все еще крепкая и проворная, — такая, какой он ее видел сегодня спешащей с корзиной на плече в Хэмпстед-Хис. Энгельс вспомнил, что в Том письме Беккеру по поводу смерти Маркса он еще писал: «Ну что ж, мы останемся на посту. Пули свистят, падают друзья, но нам обоим это не в диковинку. И если кого-нибудь из нас и сразит пуля — пусть так, лишь бы она как следует засела, чтобы не корчиться слишком долго».
Энгельсу захотелось вновь повторить сейчас эти слова, только теперь вместо «мы», «нам», «нас» всюду следовало написать «я», «мне», «меня». Но он не написал этих слов. Он только подумал: раз смерть неизбежна, то когда бы я хотел ее принять? И, еще раз вспомнив Елену, снова вглядевшись в ее облик, охватив мысленным взором всю ее жизнь, он ответил себе: «Пусть дано мне будет умереть в тот момент, когда я окажусь не в состоянии бороться».
Энгельс запечатал письмо, надписал адрес и встал, чтобы положить его на круглый столик, с которого Елена обычно забирала всю корреспонденцию, предназначенную к отправке. На столике лежало несколько неотправленных писем. А на соседнем, точно таком же, на который клали полученную корреспонденцию, громоздился целый ворох разных конвертов, пакетов, бумаг. Вот уже несколько дней Энгельс сам складывал их сюда, но не разбирал. Здесь были газеты — английские и немецкие, французские и итальянские, русские и испанские, американские и датские, болгарские и чешские, швейцарские и румынские… Здесь были письма, рукописи, книги — из Манчестера и Парижа, из Рима и Чикаго, из Копенгагена и Софии. И все ждало его руки, его глаза, его оценки…
Завтра он примется за все это… Завтра? Он подошел ко второму столику, сгреб все бумаги, свалил их на край своего огромного письменного стола и начал разбирать.
Глава пятнадцатая
ЕГО ЖДАЛА РОССИЯ
Поезд шел ходко, весело. Молодой человек сидел у окна и то смотрел на деревни, поля, леса, бежавшие навстречу, то заглядывал в тетрадь с какими-то записями. До Вержболова, до России оставалось часа два с половиной. На последней станции сошел сосед, его место никто не занял, и теперь молодой пассажир ехал в отделении один. Ритмичный стук колес, умиротворенные картины ранней теплой осени за окном, одиночество располагали к раздумьям…
Впервые в жизни на четыре с половиной месяца покинуть родину, посетить Женеву и Цюрих, Париж и Берлин, встретиться со многими интереснейшими людьми — это событие, особенно если тебе всего двадцать пять лет и ты еще нигде не бывал, кроме Москвы, Петербурга, трех-четырех губернских да нескольких уездных городов. И он всю дорогу от Берлина обдумывал это событие, перебирал в памяти встречи, беседы, увиденные города, прочитанные книги — книги, которых не достать в России…
Что было самым глубоким и ярким впечатлением поездки? Что больше всего запомнилось? Может быть, красота швейцарской природы? О ней он сразу же по приезде в Женеву написал матери в Москву: «Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время».
Особенно же благодатную возможность вдосталь налюбоваться швейцарской природой он имел в санатории под Цюрихом, где провел недели полторы, стремясь по совету врачей немного подкрепить здоровье после воспаления легких, перенесенного ранней весной в Петербурге. Слов нет, швейцарские горы и долины, озера и луга незабываемы. Но все-таки он завидовал своим родным: они этим летом путешествовали по Волге. О, там он знавал места, право же, не хуже швейцарских!