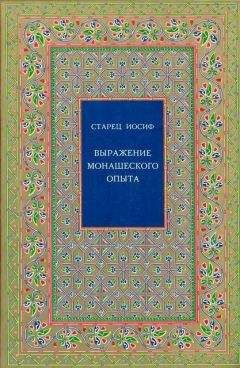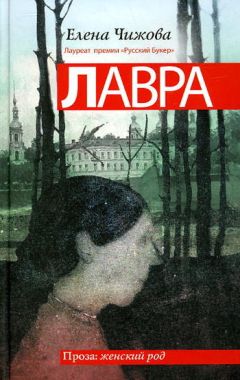Игорь Лощилов - Несокрушимые
«Братья и сродственники по крещению от святой купели, все православные крестьяне! В городах и уездах, где властвуют литовские люди, не поругана ли наша вера, не разорены ли храмы? Они считают вас своими врагами. Не помните и не смышляйте, чтобы быть у нас на Москве королевичу государем, того не допустят люди в Польше и Литве, чтобы пустить его мимо себя. Они мыслят одно: вывести от нас лучших людей и опустошить всю землю, чтобы владеть ею. Здесь мы немало времени живём и подлинно про то ведаем, для того и пишем вам. Для Бога, положите о том крепкий совет меж себя; пошлите по городам нашу грамотку, списав, и свой совет к ней отпишите, чтоб всею землёй стати за православную крестьянскую веру, покамест ещё свободны, а не в рабстве и в плен не разведены...»
Гонсевский с московскими изменниками постарался пресечь начало освободительного движения. Особенно обеспокоил Прокофий Ляпунов, человек решительный, обладающий счастливой способностью превращать намерения в немедленные действия. По наущению Салтыкова составились несколько грамот: к королю с извещением о том, что московские бояре всецело полагаются на его волю; к Филарету, чтобы он также во всём «покладывался на королевскую волю, как тому годно, так и делати»; Прокофию Ляпунову, чтобы тот не смел приближаться к Москве. Послушные бояре грамоты подписали, отказались только Иван Воротынский да Андрей Голицын. Ну да Бог с ними, пришли к Гермогену. Тот ответил:
— Напишу королю, руку свою приложу и всех благословлю на писание: буде король даст сына на Московское царство и крестит его в православную веру, а литовских людей от нас выведет. Но таких грамот, чтоб положиться на его волю и крест ему целовать, не только не подпишу, но прокляну писавших.
Михаил Салтыков, давно уже не встречавший столь явного противодействия своим гнусным умышлениям, стал площадно ругаться на патриарха и даже пригрозил ему ножом. Гермоген не дрогнул перед сверкнувшей сталью, осенил Салтыкова крестом и сказал:
— Сие крестное знамение супротив твоего окаянного ножа. Будь ты проклят в сём веке и в будущем.
Затем повернулся к Мстиславскому:
— Ты первый боярин, почто допускаешь неправедное? Будешь потаковничать скверне, сам сгибнешь и род твой изыдет...
С тем повернулся и спокойно удалился. Бояре растерялись, однако бесстыжий Салтыков быстро нашёлся:
— Не нужна нам евонная подпись! То дело не церковное, но государское, пущай впредь под молитвами и требниками пишет.
Кто-то поинтересовался:
— А как же с другими боярами?
— Это Иван с Андреем? Подпишутся, куда денутся.
В тот же вечер два боярина были взяты под стражу и под угрозой пытки были вынуждены приложить свои руки.
Грамота, присланная под Смоленск, привела в сильное смущение посольских. Оторванные от столичных дел, они не полностью были осведомлены о нынешнем порядке подготовки государственных бумаг. Хорошо, что на следующий день пришло тайное письмо, рассказывающее о том, как она подписывалась. Филарет принялся ободрять товарищей: пришёл-де наш час пострадать за христианское дело. На другой день их пригласили для объявления воли короля. Она, как и прежде, заключалась в том, чтобы Смоленск сдался на его милость.
— Как же так? — удивился Голицын. — На прошлом съезде нам объявили от маршала и канцлера, что король более смолян не неволит, обсуждали только, сколько польских людей впустить в город.
— Всё вы врёте! — закричали в ответ одни. — Мало ли что было, — говорили другие, — вам приказано от бояр полагаться на королевскую волю, а теперь она такова.
Тогда вступил Филарет:
— Нам сия грамота не указ, на ней нет подписи патриарха, окромя того два боярина приложили к ней руки нуждою, потому как сидят в заклёпе.
Польская сторона негодующе зашумела.
— Вы врёте, врёте!
Филарет поднялся, высокий, красивый. Его величественный вид и умение говорить, твёрдо, основательно, заставил умолкнуть даже самых оголтелых.
— Если у нас объявилась неправда, то отпустите нас в Москву, вместо нас пришлют других. Но мы ни в чём не лжём, говорим, что знаем наверняка, и пересказываем слова ваших начальников. Удивляемся лишь одному: спокон века посольское дело так ведётся, что если до чего однажды договорились, то после не переговаривают. У вас же в привычке отказываться и от записанного, и от сказанного. Как теперь дело вести? Лучше отъехать.
Тогда им пригрозили:
— Ежели отъедете, то в другую сторону, отвезём вас в Вильну, подальше отсюда, чтобы своим упрямством не смущать смолян.
— Воля ваша, — отвечали послы, — и на добро, и на зло. Но знайте, когда сделаете нам худо, оскорбите всю Русскую землю. Тогда не видать московского престола не токмо что королю, но и его сыну.
Стороны разошлись в большом раздражении. На следующем съезде присутствовал сам Сапега, послушал он москвичей и удивился:
— Не понимаю вашего своевольства, послы должны делать то, что предписывается правительством. Вы же ведёте дело мимо боярской грамоты и тем наносите обоюдный ущерб.
Василий Голицын спокойно объяснил, что их посольство послано от всех сословий, не только от бояр, и что если на такой наиважнейшей грамоте нет патриаршего благословения, то и говорить не о чем.
— Какое тут патриарху дело? — стал закипать Сапега. — Он должен Богу молиться да церквами ведать.
Филарет укоризненно покачал головой.
— Быстро же ты, Лев Иванович, отрёкся от прародителей, которые были в православной вере, да и сам ты родился в ней. Неужто забыл наши обычаи? Патриарх над душами начальник, кого свяжет словом, того не токмо царь, сам Бог не разрешит, а он нам наказывал от прежнего договора не отступать. Без патриаршей грамоты делать крестное целование на королевское имя никак нельзя.
— Не пристало мне слушать твои укоризны, — возмутился Сапега, — что надо, то я хорошо помню. Царь Небесный предупреждал от любоначалия, зато наказывал любить ближних. Вы же, похоже, забыли о тех, кто закрыты в городе и умирают от голода, вяжете им свою волю и обрекаете на погибель. Вот и вся ваша благость!
Филарет скорбно проговорил:
— Ежечасно молюсь за сих несчастных, обречённых врагом на страдание. Прошу у Господа защиты и ниспослании им силы, никакой другой воли я не вяжу. Ежели хочешь, спроси у них, путь сами решают свою судьбу. Но я буду стоять по-прежнему: без патриаршей грамоты не дерзну приказать смолянам целовать крест королю.
Сапега покрутил головой — и что за упрямый народ? Никакие доводы на них не действуют, и в Смоленске такие же упрямцы, слушают воеводу с архиепископом, а собственной головой думать разучились. Филарет, будто прочитавши его мысли, подсказал:
— Если пастырям не веришь, у горожан спроси, пусть решат общим присудом.
Подумал Сапега и отправил в город посланца.
Смоленск держался из последних сил, всё более напоминая человека, поражённого смертельным недугом. Из семидесяти тысяч его жителей осталась едва ли пятая часть, обезлюдели улицы, исчезла всякая живность, изуродованные дома уныло зияли пустыми глазницами. Голод отступил, городских запасов хватало, чтобы поддерживать жизнь в горстке оставшихся, зато стала резко ощущаться нехватка соли. Шеин, чтобы пресечь начавшуюся было спекуляцию, установил на неё твёрдую цену: рубль за пуд, что и так более чем в тридцать раз превышало довоенную. В указе на этот счёт говорилось: «А кто из смолян и всех городов люди, которые солью торгуют, учнут соль продавать сверх тое цены, у тех людей соль и животы брать на государя царя и им же быть казнёнными торговой казнью». Впрочем, до торговой казни дело не доходило. Пушкаря Кондрата Федотова, у которого нашли в запасе десять пудов соли, убили на месте, старухе, торговавшей по сеченой копейке за щепоть, набили рот её же солью, отчего она задохнулась. Закон более не властвовал, жизнь диктовала свои понятия о преступлениях и наказаниях.
С этой зимы самым жестоким бедствием стала цинга. Люди умирали сначала семьями, потом домами, потом целыми улицами. Иные некогда бойкие кварталы превратились в пустыри. Афанасий и Антип давно уже не занимались розыскными делами, они как могли облегчали участь больных и страдали от собственного бессилия. С недавних пор их пациентом стал собственный начальник. Князь Горчаков угасал прямо на глазах и как-то сразу превратился в глубокого старика. Непрерывная работа, бессонные ночи, позор и смерть дочери — всё, что раньше отступало перед человеческой волей, вдруг навалилось разом и вызвало столь разительные перемены. Несмотря на явную немощь, он не оставлял попыток заниматься розыскными делами, и Афанасию приходилось чуть ли не силой удерживать его в постели.
— Ты, Пётр Иванович, уже всех злоумников на чистую воду вывел, всех шпегов переловил, — убеждал он, — в городе и людей-то не осталось, одни тени.
— В нашем деле от теней самая беда происходит, — убеждённо прошептал Горчаков, — от них и Москва скурвилась.