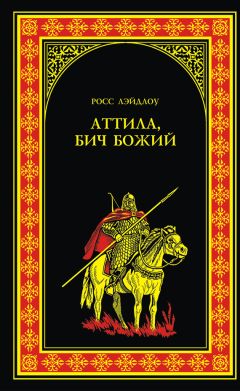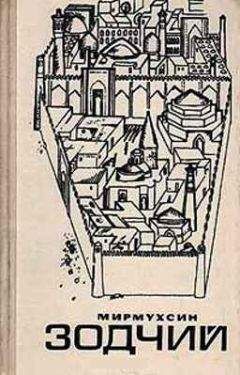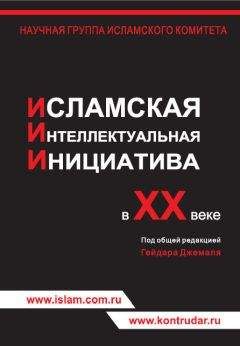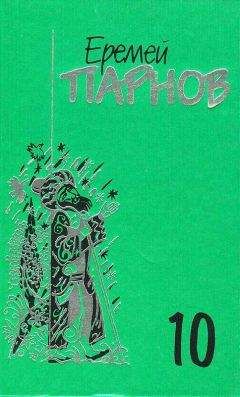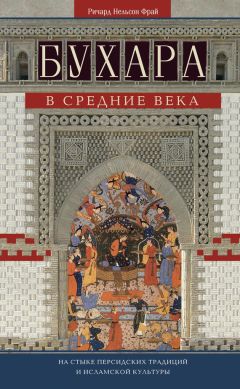Росс Лэйдлоу - Аттила, Бич Божий
Что касается источников, то в основном я опирался на «Закат и падение Римской империи» Гиббона (рекомендую: захватывающее чтение обеспечено), «Историю Аттилы и гуннов» Э. — А. Томпсона и «Позднюю Римскую империю» моего бывшего преподавателя, А. — Х. — М. Джонса. Из множества книг, любезно предоставленных мне моим соиздателем, Хью Эндрю, особенно ценными оказались следующие: «Галлия в пятом веке» (серия статей, изданных Джоном Дринкуотером и Хью Элтоном); «Древние германцы. Быт, религия, культура» Малькольма Тодда; «Мир в древние века» Питера Брауна; «Варварские нашествия на Европу: германский натиск» Люсьена Мюссе и — настоящее сокровище! — «Рим: падение, которого не было» Стивена Уильямса и Джерарда Фрилла. Много полезной информации я почерпнул и из первоисточников: «Notitia Dignitatum», реестра армейских и гражданских должностей для обеих половин империи, составленного в 400 г. н. э.; «Деяний» Аммиана Марцеллина, самым замечательным образом повествующих о жизни Римской империи в эпоху домината; «Географии» Птолемея и «Византийской истории» Приска Панийского, бывшего свидетелем пребывания послов Восточной империи при дворе Аттилы.
Р. Л.
Приложение 1
По праву ли Аттилу называют «Бичом Божьим»?
В нашем понимании прозвище Аттилы — Flagellum Dei, Бич Божий — характеризует его как безжалостного предводителя варваров, стоявшего во главе орды кровожадных дикарей, разграблявших Римскую империю. Доля правды в подобном образе, конечно же, присутствует. Тем не менее для современников Аттилы этот эпитет имел несколько иное значение. Аттила был для них справедливой карой, ниспосланной Богом в наказание христианскому римскому миру за некий (неустановленный) коллективный проступок или упущение. Катастрофы, вне зависимости от того, каким — человеческим или природным — фактором они определялись, люди в то время склонны были рассматривать как следствие божественного порицания. Это, возможно, дает новую перспективу интерпретации прозвища Аттилы. Считали ли бы Аттилу Бичом Божьим, будь он христианином, а не язычником? Вопрос спорный. Правителя вандалов Гейзериха, который был христианином и не уступал Аттиле в жестокости и стремлении к разрушениям, иначе как по имени никогда не называли.
Если мы будем отталкиваться от стандартов древнего мира, Аттила, возможно, и не покажется таким чудовищем, каким представляется нам сейчас. «Величие» в те времена определялось количеством побед, числом убитых или обращенных в рабство врагов — поэтому и называли «Великими» Александра, Помпея и прочих. Римские полководцы торжественно въезжали в город лишь в том случае, если число поверженных противников превышало пять тысяч человек. (Юлий Цезарь хвастался тем, что убил более миллиона галлов.) Исходя из этого критерия, мы, безусловно, можем считать Аттилу законным кандидатом на пальмовую ветвь первенства! «Аттила Великий» — звучит несколько абсурдно, но, возможно, лишь потому, что он не оставил ничего после себя. Не распадись выстроенная Аттилой огромная империя сразу же после его смерти, возможно, он имел бы сегодня другую славу. В конце концов, история пишется победителями.
На персональном же уровне Аттила выгодно смотрится в сравнении со многими «цивилизованными», по общему мнению, греками и римлянами. Легендарная простота одеяния и образа жизни (одежда из кожи, деревянные чаши и блюда) являли собой полную противоположность показному великолепию и богатству имперских дворов Константинополя и Равенны. Несмотря на то что наказания его отличались особой жестокостью (любимыми их формами были распятие на кресте и сажание на кол), Аттила мог — как и подобает благородному правителю, не опускающемуся до мелочной мести — проявить милосердие и даровать прощение. К примеру, когда перед ним оказался Бигила/Вигилий, глава заговорщиков, замышлявших убийство Аттилы, король счел его столь ничтожным, что даже не стал наказывать. Эти, безусловно, в определенной степени характеризует Аттилу как человека благородного и не идет ни в какое сравнение с завистливой мстительностью Валентиниана III, собственноручно лишившего жизни своего главного полководца, Аэция, или злобной недоброжелательностью императрицы Евдоксии, подвергнувшей святого Диона Хризостома таким гонениям, что они свели его в могилу.
Аттила, знаменитый своими набегами на Восточную, а затем и на Западную Римские империи, видится нам рвущимся к власти мегаломаньяком. В действительности же у него просто не было другого выбора. Вместе с гуннским троном он унаследовал и склонность своих предков к войне. Именно она, беспрестанная и успешная, была тем единственным средством, которое объединяло гуннскую нацию и позволяло самому Аттиле поддерживать личную власть, не забывая при этом вознаграждать своих сторонников. Окажись он неспособным сохранить этот импульс — тут же был бы заменен кем-то другим (и почти наверняка — убит). Благодаря столь пространной реинтерпретации истории Аттила предстает перед нами скорее человеком своей эпохи и заложником обстоятельств, нежели Бичом Божьим.
Приложение 2
Почему восточной империи удалось уцелеть, тогда как западную ждал крах?
Последний шаг в пропасть Запад сделал в 476 году, Восток же пережил его на многие столетия. Почему? За сотню лет до коллапса Запада Рим все еще представлял собой грозную силу с огромной армией, способной справиться с любым врагом и воевать на нескольких фронтах одновременно. Сражаться приходилось на огромной территории, растянувшейся на тысячи миль, от Рейна до Евфрата, как рассказывает Аммиан Марцеллин, армейский офицер, ставший историком, в своих «Деяниях» — великолепной картине жизни позднего римского мира в те времена, когда именно Запад считался более сильной половиной империи. Страницы этого труда изобилуют яркими и живыми картинами, но единственный намек на приближающуюся катастрофу мы находим в том месте, где автор описывает Адрианопольское сражение и последствия этого конфликта (приведшего к уничтожению армии Восточной империи и смерти ее императора), которые — по крайней мере, как казалось в начале — никоим образом не должны были сказаться на Западе. Тем не менее события следующих нескольких десятилетий показали, как обстояла ситуация в империи на деле: Запад имел серьезные, бессимптомные слабости, проявившиеся лишь после смерти Феодосия I (395 г.), тогда как Восток оказался гораздо более сильным и стабильным, чем то виделось в 378 году, когда, собственно, и произошло Адрианопольское сражение. Лучше понять эти различия мы сможем, сравнив две части империи по трем критериям.
Первый — границы. Запад с его чрезвычайно длинной границей — весь Рейн и Верхний Дунай — был в гораздо большей степени подвержен набегам варваров, нежели Восток, единственной головной болью которого оставался Нижний Дунай. (Персия, у ее восточной границы — потенциально представлявшая собой гораздо большую угрозу, чем любой варварский союз — являлась в то время цивилизованным и сильным государством, в целом соблюдавшим условия заключенных соглашений.) В отличие от Востока, бедные балканские провинции которого могли выступать в качестве своеобразной буферной зоны, амортизировавшей нападения варваров, что позволяло не только более богатым восточным и южным провинциям, но и Константинополю сохранять свою неприкосновенность, вся Западная империя — кроме, разве что, Африки — была полностью открыта для проникновения варваров: им стоило лишь перейти границу. К тому же, зачастую пресыщенные разграблением Балкан захватчики (к примеру, Аларих и визиготы) обращали свой взор в сторону Запада, чему на Востоке были только рады.
Критерий второй — экономика. Восток был гораздо более богатым и плодородным, нежели Запад, где огромные территории занимали леса и неосушаемые земли. Более того, на Востоке достаток, с его, в целом, справедливой налоговой системой и обеспеченными землевладельцами-крестьянами, был гораздо более равномерно распространен, чем на Западе, где богатые аристократы-сенаторы жили в необыкновенной роскоши, в то время как большая часть населения едва сводила концы с концами. Вдобавок ко всему, именно на бедняков, по большей части — возделывавших небольшие наделы земли крестьян, выпадала основная доля налогового бремени, — и это с учетом того, что им приходилось платить еще и ренту крупным землевладельцам, у которых они арендовали свои делянки. На большинстве западных территорий жили германские племена, которые, хотя и обосновались там на правах федератов, вообще не платили налогов. Сжатая до предела налоговая база, трудности с вербовкой в армию и огромные людские потери вследствие войн с варварами делали задачу западного правительства по созданию сильной, боеспособной римской армии практически неразрешимой. Налицо были все признаки усиливавшегося неравенства между двумя частями империи: на Западе — недовольство и снижение патриотизма, бегство тысяч бедняков в имения, принадлежавшие могущественным собственникам (что позволяло укрыться от сборщиков налогов и избежать продажи в рабство за долги), беззаконие или открытый бунт наподобие «Крестьянского восстания» багаудов; на Востоке — однородное, процветающее и постоянное население.