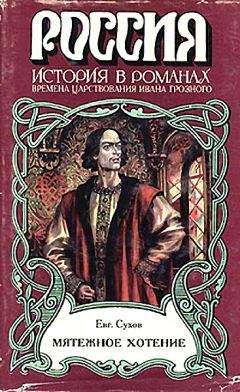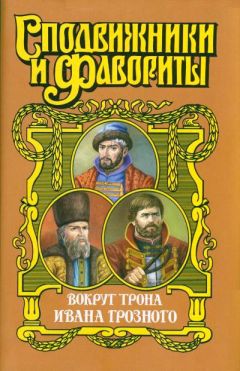Всеволод Иванов - Черные люди
— Ульяш! — крикнул Павел Васильич.
Никто не отозвался.
«Не слышат, что ли?»
Встал, подошел к двери, раскрыл:
— Ульяш!
— Эй! — отозвалось со двора, слышно — бежит.
Хозяин сел за стол, пальцами постукивает.
Стал Ульяш в дверях, и тоже видать — и Ульяш не тот. Тонок, строен по-прежнему, а нет в глазах огня, словно пеплом подернуло их глубинной тоской. Не мог Ульяш и в Сибири позабыть легкой как цветок Настёнки — Настасьи Кирилловны, что утащила чума. Живучи в Сибири, хоть и обженился там Ульяш, — недобро человеку единому быти, известное дело, — а вот уж пять лет все лежат незабываемо на душе те страшные чумные дни…
Стал Ульяш у притолоки, сверкнул зубами, смотрит.
— Звали?
— Садись, друг, рассказывай, как там и што! — заговорил хозяин. — А то недосуг все с тобой поговорить… Нам теперь две заботы — пушнина с Сибири да рыба с Архангельска. Ну, пушнина к Рождеству подойдет — тут серебра доспеем довольно, тогда рыбу выкупим. А сейчас надо, с рыбой, ждать никак нельзя — нету в Москве рыбы, нужно бы подвезти… Одно к одному!
— Может, в Гостиной сотне дадут серебра на веру? — заметил Ульяш, острым носком сапога царапая дерюжку.
— Посмотрим. Сказывай, чего у вас в Сибири… Тут в Сибирском приказе Нарбеков-дьяк, Богдан Федотыч, покою не дает… «Что ж, говорит, дальше на Амур не идут? На Амур как выйдут — всю Сибирь прокормят. Князь, говорит, Трубецкой Алексей Никитыч все беспокоится, не дойдем ли там до моря-окияна, пока он тут с Литвой управится?..» А?
Ульяш улыбнулся криво.
— Видно, Москва и там на медные гроши серебряных пятаков купить хочет, — ответил он. — Трудно! Сказывал мне Тихон Васильич, что хоть Пашков и пошел воеводой на Амур, пошел прямиком, через Байкал-море, да все равно далеко не ушел… И сказывал Тихон Васильич еще: истинно, Даурская земля будет куда прибыльнее Лены-реки, да и всей Сибири, пожалуй, украшеннее и изобильнее. Да не выйдет Пашков-воевода на Амур-реку, никак не выйдет!
— Пошто же?
— Кончились бесхозяйные-то земли… Можно сказать, наши люди там в Каменную стену уперлись, а перед тою стеной и за стеной стоит теперь великий хан Богдойской земли, силен он гораздо и людьми, и пушечным нарядом, и серебром, и всяким узорочьем… Недвижно живут той земли люди несчетные, мирно живут, оттого и сильны они, сказывал Тихон Васильич. Воевода Пашков, поставил-де острог не на Амуре, а ближе, на реке Нерчи, там, где и чаять нельзя приходу богдойских людей… И живет там с великим береженьем и скудно…
— Сказывал, стало быть, верно дьяк-то Богдан Федотыч — шлет Пашков сюда, в Сибирский приказ, отписки, сменили бы его! — отозвался Босой.
— Шилом моря не нагреешь, Павел Васильич. Делалось все дело в Сибири черными пашенными людьми, вольными казаками да государевым счастьем. А ныне-то дело кончилось…
— Так на Амуре-то кто?
— Хабаров туда Степанова послал, да, слышно, пропал тот Степанов безвестно на Сунгари-реке. Убили, сказывают, его там богдойские люди до смерти…
— А теперь на Амуре что?
Громко взлаял дворовый пес Балуй, загремел на железной цепи. Павел Васильич вскочил с лавки.
— Должно, кто чужой! — сказал он, высунувшись в окошко. — Так и есть!
Калитка приоткрылась наполовину, оттуда, из-под самой притолоки, глядела узкая голова в новгородской шапке.
— Эй, — закричала голова, — прибери кто окаянного пса!
— Заходь, заходь, Феофан Игнатьич, не бойсь, — говорил, перегнувшись боком из окна, Босой. — Да к тыну жми, к тыну поближе, от пса подале… Во-от так, так… Пройде-ешь! — И, уже милуясь на пороге горницы со своим дружком в коломенскую версту, Босой оправдывался: — Как нынче безо пса жить, без опасу? Нельзя! Сам знаешь, каждый день ныне в Земский приказ покойников волокут — лихие люди грабят да до смерти бьют…
— Все серебра ищут! Как приказ, так и у нас! — прищурился Феофан Игнатьич. — И я к тебе за тем же… Ссуди, Христа ради, надобно товар, что в Новгороде лежит, ослобонить, а денег свободных нету…
— Что делать будем, Феофан Игнатьич! — отозвался Босой, протирая очки. — Вот последние времена! И товар есть, и люди есть, а денег нет— всё лежит в амбарах как мертвое… За титлу воюем государеву да за честь. Честь, когда неча есть!
Босой зажевал губами. Видно, так и хотелось ему поговорить. А как поговоришь? Тише кричи — бояре на печи, того гляди сволокут куда надо!
— Кому платить? — спросил он.
— Да в Новгороде Панфилову Сергею Проклычу… Полотен я у него набрал, посуды, гребней, то да се, тут, в Москве, хотел на городовой товар выменять, ан из Новгорода без серебра не спускает хозяин: плати! И скажи, пожалуйста, Павел Васильич, почему вот, когда с деньгами туго и товаров мало, тут-то и хозяин и нажимает?
— То-то и есть… Привык ты, Феофан Игнатьич, торговать, когда у всех руки товаром полны, знай только бирку на дверях зарубай, а расчет будет… Не знаю, что тебе и присоветовать…
— Думал я у Шорина что взять, у Василья…
— Во-во! — усмехнулся Павел Васильич. — У Шорина! Он денег накопил, теперь раздает да рези берет. Ни оборота у него, ни дела, только, как мизгирь, кровью наливается. Много теперь таких на Москве, что серебром пухнут… Сделаем по-другому. Тут в Суконной сотне платежи, слыхал я, есть в Новгород, они там за тебя заплатят, а ты здесь им товар сдашь против московского товару. А то как можно деньги на кабалу али на резь брать?.. Так только бояре делают, своим мужикам деньги дают да тем мужиков крепят к земле неизбывно. И немцы-купцы нынче на том стоят, у них серебро, они деньги дают нашим на лихву. Только позволь — сейчас же у нас свои банки откроют. Я у них бирывал — соболишек из Сибири было никак не выручить без расчету… Ну, я заплатил, слава богу, рыбу из Архангельска мне подвезли, расхватал народ. А не заплати сразу — будешь на немцев век за лихву, за резь работать. Ладно указал государь — с немцами дело вести только присяжным первым нашим гостям, а то мелких-то людей они давно бы всех под ноготь подобрали, заглонули, что щука карася.
— Спаси Христос, выручил ты меня, Павел Васильич, — кланялся Феофан Игнатьич. — И я тебе, коли што случится, подмогну. А в Сибири как у тебя?
— Да что! — говорил Босой, кивая на показавшегося на пороге Ульяша. — Послушай, что сказывает.
— Давно прибыл, Ульяш? — спросил Стерлядкин.
— Только што, — поклонился тот.
— Так вот, — продолжал Босой, глядя ласково на Ульяша, — сказывает он, что нам наши дела в чужое царство уперлись, ходу нам теперь там некуда. Богдойский царь вельми силен, Ульяш, а? Хабаров дальше неспроста не пошел!
— На заимку, слышно, что ли, в обрат сел Ерофей-то Павлыч? — обратился Стерлядкин к степенно молчавшему Ульяшу.
— Ага! — ответил тот с поклоном. — Точно так. Сын он боярский теперь, Ерофей-то Павлыч, приказчиком сидит в Илимском остроге… Все деревни теперь под ним, от Усть-Кута острогу до Якутска. Людей пашенных к себе многих назвал, и хлеб сеет, и рыбу ловит, и соль варит… Монастырь на помин души строит.
— Наш человек! Устюжский! Добрый человек! — потеребил себе бородку Босой. — Правильный человек! Что говорить, на богатой земле мы живем, всегда можно взять, что нужно, только голову да руки имей. А вот за чужим гонимся, воюем, — выходит, что свое теряем. И Пашкову больше вперед идти невмочь.
— А-а!
— Да и в Литве налетели мы с ковшом на брагу — дай бог только ноги унести… Шведы с Литвой мир заколачивают, а нашему-то Иван-то Андреичу бежать приходится.
— Кому?
— А Хованскому-князю. Московскому нашему тарарую. И Вильну, сказывают, наши уж бросили. А сколько люда нашего зря там положили!
— Ты кричи тише, Павел Васильич, — улыбнулся Стерлядкин. — Всем знатно, что шведы на Новгород да Псков из Лифляндской земли идут. Опять все зорят! И когда же конец будет, а?
— Не жди, Феофан Игнатьич, не увидим мы другого времени, — говорил, подняв брови, Босой. — Нет! — махнул он рукой. — Не видать нам той тишины, чтобы земле с собой силу несла. Спасибо, сказывают, теперь боярин Афанасий Лаврентьич со шведами хорош, мира у них просит…
— Какой это?
— Ну, Ордын-Нащокин! Ваш, пскович! Больно-де в иноземных обычаях искусен. Так и с ним беда! Слыхал ли?
— Нет. А чего еще? — поднял любопытно Стерлядкин узкое свое лицо с длинным носом.
— Сынок-то Афанасьев, младень Воин Афанасьевич, сбежал из нашей земли. Не люба ему Москва! Живет теперь в Гданске, у польского короля. И жалует ему тот круль жалованье по пятьсот ефимков на месяц. Ходит тот молодчик наш там в польском платье, хвалится — воевать-де готов, помогать польскому крулю и что-де он отца своего, Афанасья, не пожалеет, приведет за бороду пленным к польскому престолу. И другие поносные слова неподобно на землю свою плетет…
— Чего ж это бы так-то? — оторопев, не понимал длинный новгородец.