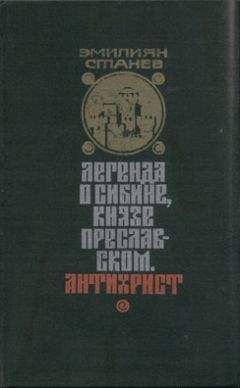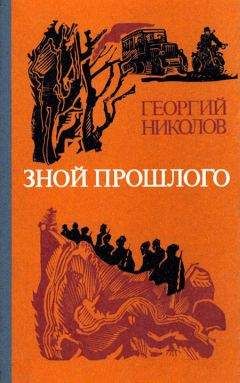Эмилиян Станев - Иван Кондарев
Георгиев растерянно поглядел на него.
— Почему? Ах да, возможно… — сказал он, уловив намек. — Но если даже испугаюсь…
«Жестокость — извечная потребность жизни», — усмехнулся Кондарев.
— Я не отказываюсь от своих слов… но я вовсе не революционер… А вы озверели. Волками вас там сделали, вытравили из души все человеческое, весь весенний сок молодости…
Кондарев вздрогнул, насмешливая улыбка сбежала с его лица. Собираясь уходить, он взял шляпу.
— Антон, кто у тебя? — послышался женский голос за дверью, и на пороге появилась высокая пожилая женщина с усталым, но еще красивым лицом. На ней было черное, вышедшее из моды платье. Увидев Кондарева, она приветливо улыбнулась.
— Каким это ветром вас занесло сюда? Вы так редко у нас бываете!
— Он невоспитан. Заходит, лишь когда понадобится какая-нибудь книга.
— К нам часто приходят господин Ягодов и господин Сиров. Особенно зачастил господин Ягодов. Они постоянно затевают споры с Антоном. Антон злится и много курит, а это вредно для его сердца. Но почему вы не садитесь? Я угощу вас вишневым вареньем.
— Он всегда стоит, когда приходит к нам, и никак не может понять, что это невежливо, — сказал Георгиев.
— Так уж получается… Сегодня делаю доклад в клубе и мне некогда, — сконфуженно ответил Кондарев.
— Доклад?! Целый час проговорили, а так и не сказал, что выступаешь с докладом! — воскликнул Георгиев. — На какую тему? Впрочем, ваши доклады скучнее богослужения. Экономический кризис, новая война, которая угрожает народам, буржуазия, которая стремится переложить на плечи народа гибельные последствия войны, и так далее и тому подобное. Избитые, пережеванные темы, нудные дальше некуда. Ну, так на какую же тему?
— О роли личности в обществе, или, вернее говоря, против анархизма любого толка.
— Стрела твоя пролетела мимо цели. Я никого не учил анархизму. Так вот для чего тебе понадобился Спиноза![30] Значит, и свободная необходимость пойдет в ход? Но главным, конечно, останется Плеханов, оптический обман в вопросе о Наполеоне.[31] Чего я не могу принять в вашей философии — это ее догматическую и сухую теоретичность! — В глазах Георгиева лукаво сверкнули задорные огоньки.
— Вы ведь эстет, — с иронией сказал Кондарев и поспешно стал прощаться.
Время подходило к восьми, а кроме того, ему не хотелось ввязываться в бесполезный спор со старым, но запальчивым, как юноша, чудаком.
Усилившийся ветер вздымал облака пыли и нес по тротуарам обрывки бумаги. В портняжной мастерской сухо застучала швейная машина; у порога подмастерье раздувал большой утюг. В кузнице неподалеку отковывали железный прут. Длинная кривая улочка, ведущая с площади на главную улицу, сохраняла старинный вид. В маленьких мастерских дробно стучали молотки, шипели рубанки, жужжали смычки шерстобитов. Разве не смешно говорить здесь о каком-то божественном городе красоты, о Европе и о светлом наследии веков?
И этот нелюдим, его старый учитель, — некогда, будучи гимназистом, он с восторгом ловил каждое его слово, — теперь прячется в «городе красоты». До чего странно, что живем мы все обособленно, словно иностранцы, даром что говорим на одном языке… Да и сам он не без греха — от избытка самомнения ни с кем не делится своими мыслями, боясь, что не поймут… А в результате оказываешься в плену какого-то странного одиночества и подозрительности…
Разговоры о Европе и колкости, которыми его осыпали, отвлекли внимание Кондарева от предстоящей дискуссии с анархистами. Вспомнив же, с каким равнодушием партийный комитет отнесся к дискуссии, и то, что представляет собой этот комитет, он чуть было не сплюнул…
Перейдя главную улицу, он оказался в нижней части города и сразу же забыл о своих размышлениях и обидах. Он подошел к дому бондаря и с улыбкой заглянул в окна второго этажа, выступавшего над улицей. Почему бы не пригласить Христину на его доклад в клуб? Но он с горечью подумал, что Христина не пойдет. Тогда зачем растравлять себя пустыми мечтами? Слишком часто стали возникать такие желания, хотя он и сознавал всю их несбыточность.
Крепкая дубовая дверь отворилась. Из дома вышли Райна Джупунова и мать Христины. Райна смутилась и робко поздоровалась, старая женщина приветливо кивнула ему. Кондарев вздрогнул от неожиданности. Зачем приходила эта девушка, ведь она давно не дружит с Христиной? Он хотел было вернуться и спросить, дома ли Христина-, но, увидев, что женщины продолжают разговаривать у порога, подумал, что Христины нет дома, и зашагал к партийному клубу, находившемуся через две улицы, на маленькой площади, окруженной мастерскими медников и шорников.
10Клубом служила бывшая типография — старое помещение со сводами, стянутыми поперечными железными брусьями. Одна его часть выходила на площадь, а другая — на реку. Два окошка были распахнуты, чтобы пропустить больше света.
Клуб был уже полон. Вдоль стен стояли и разговаривали, покуривая, подручные, подмастерья, чиновники и гимназисты. Среди них сновал остролицый веснушчатый гимназист с черными живыми глазами. Костюм соломенного цвета никак не вязался с его черной сплющенной фуражкой, лихо заломленной на затылок. Он курил из огромного мундштука, вырезанного из соснового сучка.
В углу, у большого плаката, на котором красная метла выметала господ в цилиндрах, стояли несколько женщин. Кондарев направился к передним рядам, где расположились члены городского комитета. Послушать доклад, о котором был оповещен весь город, собралась почти вся интеллигенция. Многих из них Кондарев знал только в лица.
Продавец газет Моньо беззлобно посмеивался в ответ на сыпавшиеся со всех сторон шутки. Он чуть было не налетел на Кондарева, когда тот здоровался с рослым мужчиной лет пятидесяти, с маленькой бородкой на крупном худощавом лице, из-под которой проглядывал высокий воротничок, подпиравший сухой подбородок. Он разговаривал с молодой женщиной в трауре.
— Одною рукой бюллетень опускаем, другою рукой карабин поднимаем. Продавай иконы, покупай патроны^. Товарищ К ее яков, дайте мне сигарету. Я помню «Верую»[32] наизусть, — сказал маленький газетчик, втершись между Кондаревым и высоким мужчиной.
— Рано тебе еще курить, рано. Ишь ты какой… Я говорю ей, что она может быть очень полезной, если будет действовать по-умному, — обратился к К он да реву пожилой мужчина, показывая глазами на молодую женщину в трауре — это была телефонистка.
— Но они дают клятву, — говорил в стороне низкий, коренастый мужчина с ботевской бородой. Вокруг его мощной шеи болталась кремовая манишка без воротничка.
— Клятва имеет значение тогда лишь, когда соответствует внутреннему я, — пренебрежительно возразил стоящий рядом молодой человек в пенсне и модном клетчатом костюме. Слова его сопровождались энергичной жестикуляцией, отчего висящая на локте тросточка заколыхалась во все стороны. Молодой человек с достоинством поклонился Кондареву.
— А существует ли внешнее я? — спросил Кондарев.
— Вы никогда ничего не понимали в подобных вещах! — И молодой человек повернулся к нему спиной.
В это время мимо них прошел высокий парень, весь в черном, в блузе, опоясанной шнурком, в мятых, никогда не знавших утюга брюках. Тщательно выбритые щеки отливали синевой. Он шел с надменным видом — так, будто ему ни до чего нет дела, но его черные, мрачно поблескивающие глаза исподлобья оглядывали зал. Не выбирая, он сел на крайний стул первого ряда, даже не взглянув на соседа, снял черную шляпу и, расчесав пятерней свои густые, черные как смоль волосы, деланно зевнул. На левой руке блеснул оловянный перстень с черепом и скрещенными костями.
— Анастасий, а где твои люди? — тревожно спросил молодой человек в пенсне, быстро подходя к анархисту.
— Мы не стадо, — громко ответил Анастасий.
— Значит, chacun pour soi?[33]
Анархист не ответил. Он наблюдал за Кондаревым, который здоровался с членом городского комитета, адвокатом Тодором Генковым.
— Его люди придут. Он ими командует, как главарь бандой. Вон Сандев, а за ним и Тинко Донев, — сказал Кондарев адвокату.
— Надо быть тактичным, не раздражать их… Смотри, сколько зевак собралось! — Адвокат недовольно свел густые брови над вздернутым носом.
Кондарев с нетерпением посматривал на дверь. Секретаря городского комитета все еще не было.
— Где же Янков? — спросил он.
— Да, в самом деле. И кожевники не пришли, и женская часть маловата.
«Женская часть» была действительно «маловата». Во всем клубе набралось лишь восемь женщин: дородная жена печатника, на целую голову выше своего тщедушного мужа; вязальщица, ярая феминистка и мужененавистница, коротко остриженная — она причесывала сейчас волосы; учительница Таня Горное еле к а, три портнихи и две пожилые активистки в панамах.