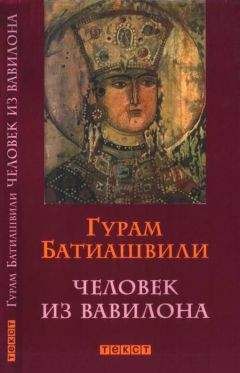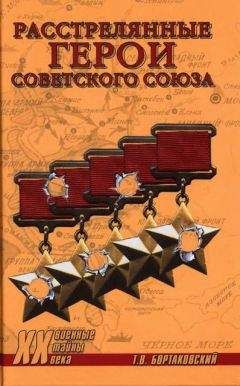Наталья Иртенина - Андрей Рублёв, инок
Ушел от московских людей в дикое Засурье, засел в Курмыше и стал копить силы. А тут и удача вновь поманила хитрой улыбкой.
– Грамота не подписана. Но татарин, что привез ее, клялся, будто она составлена кем-то из Фотиевых бояр. Прочти, свояк.
Князь Данила разгладил на столе мятый пергаменный свиток. Сидевший напротив него человек придвинул ближе свечу, стал разбирать писанное. Буквы непривычно круглились, цеплялись одна за другую лишними хвостиками и целыми оглоблями.
– Отвык я в Орде от грамоты. – Тот, кого назвали свояком, отринул от себя пергамен. – Зачти ты, Данила Борисыч.
– Долго ль ты в Орде пробыл, свояк, – усмехнулся князь. – А мне только и дела было там, что книги читать. Не то б и говорить по-русски разучился. Письмо явно греком писано. А греки народ словоблудный. Если самую суть брать, то сказано здесь так. – Данила заглянул в харатью. – Княжий наместник во Владимире боярин Щека не станет, мол, возражать против того, чтоб благоверный великий князь нижегородский, суздальский и городецкий Даниил Борисович… расстарался грек, ничего не забыл, – удовлетворенно отметил он. – …Чтоб благоверный великий князь Даниил Борисович взял причитающееся ему со своей отчины серебро и имение с Владимирского города и!.. Слушай, свояк, слушай… И в залог добрых соседских отношений с великим князем московским Василием Дмитриевичем… это с Васькой-то, добрых отношений, – хмыкнул Данила. – В залог, значит, оного взять с собой из города Владимира преосвященного митрополита всея Руси Фотия и держать его у себя в надежном убережении, сколько потребно времени для умягчения великого князя Василия… и для возобновления русской старины, порушенной московскими владетелями… Грек, видать, непростой, ежели знает, как на Руси прежде было. До того, как Москва начала себя первой мнить и чужие отчины под своего князя тянуть.
– Какое дело какому-то греку до русской старины? Не ловушка ли это московская, чтоб тебя выманить?
Человек, разговаривавший с курмышским хозяином, был желчен и мрачен. Его лицо годами свыкалось с выражением уязвленной гордости и жёсткого равнодушия, превратившись почти в личину из холодного металла. Но металл был исщерблен: лоб, кроме морщин, проложенных частым гневом, перечеркивал глубокий давний шрам.
– Не похоже, свояк. – Данила задумчиво сворачивал пергамен. – Не посмели бы московские хитрецы приплетать Фотия. Слыхано ли – митрополита в полон брать. Если б ловушку задумали для меня, не стали б такой опасной приманкой заманивать. Серебром владимирским – да, а владыкой… Да и зачем мне самому голову туда совать? Людей у меня разве нет?
– Так ты возьмешь Фотия?!
Оба собеседника были примерно равных лет, каждому перевалило за полвека. И судьбы казались схожи. У каждого были взрослые сыновья, которым нечего оставить в наследство. А за плечами – изгнание, бесчестье, предательства тех, кого считали верными людьми, плен родни, скитания в Орде, бесприютность… и наконец, проблеск безумной надежды. Высокородная княжеская кровь кипела в обоих. Накипь жестокой обиды давно оседала в душах. Но у курмышского гостя с лицом-личиной кровь была много выше, древнее, чем у правителей Залесской Руси. Эта кровь веками напитывалась мятежным своеволием, нещадным произволом, бесстрастием ко злу, небрежением к милосердию. Став почти черной, она день за днем и год за годом отравляла последнего из рода смоленских князей, потерявшего в конце концов и смоленский стол, и семью, и родовую честь… а за ней и честь собственную.
– Возьму, Юрга, – с холодной улыбкой произнес Данила Борисыч. – От такой выгоды грех отказываться. Если даже Фотиевы церковные греки на моей стороне. Пускай Церковь будет судией в моем споре с Василием.
– Митрополиты сто лет держат сторону Москвы, – усомнился смоленский изгнанник. – За московских князей они и к татарам в заклание пойдут, как Алексий полвека назад. Тот же Алексий тверского князя хитростью в московскую темницу заточил! Не будет тебе пользы от Фотия. Разве самого в темнице истомить для сговорчивости.
– Томить не стану. Но и на волю не пущу, пока добром не склонит Ваську отдать мне Нижний и сам не благословит меня сесть на своей отчине.
– Как благословит, так и анафемой проклянет, едва отпустишь. Да и сколько ждать будешь, пока Фотий сопреет на твоих хлебах.
– А у тебя какая дума, свояк? – потемнел взором Данила.
– Пригрозить Василию, что Фотия татарам продашь, – жестко отмолвил смоленский князь. – После разгрома на Куликове они русских попов как прежде не жалуют, сам ведаешь. Монастыри Едигей жег за милую душу и чернецов в полон набрал. А уж Орда такой выкуп назначит, что Василию всю свою казну придется вытряхнуть, да по сусекам скрести.
Данила Борисыч долго обдумывал его слова, взирая на дальнего родича с опасливым сомнением.
– Что смотришь? – ощерился Юрий Святославич. По-иному улыбаться он давно не умел.
– Смотрю: впрямь ты безумен, свояк, как говорили, или от бед своих думать разучился? Да ежели хоть волос упадет с головы Фотия или хоть пригрожу Василию этим волосом, он мне житья не даст. Не то что Нижнего. Не только митрополиты за Москву стоят, Москва за них глотку перегрызет. Фотием с Васькой торговаться все равно что смерть себе кликать. А я еще жить хочу. И на Руси, как князь, а не в степях, как волк.
– Смерть кликать, говоришь? – глухо переспросил смоленский изгой. Данила отодвинулся подале от стола, увидев, как жесткое лицо Юрия медленно, с натугой перекосилось. Заплясавшее пламя свечи усилило впечатление. – А на мне уже могильная земля лежит. – Пристально глядя, он проскрежетал: – Отдай Фотия мне!
– Выпей меду, свояк, – так же жестко ответил курмышский князь. – Фотия тебе не отдам. И запомни: поперек мне пойдешь, последнее пристанище на Руси потеряешь. В лесах будешь гнить.
Юрий первым отвел взгляд.
– Запомнил.
– Ну и аминь. Спать пойду. – Данила кончил разговор. – Завтра, если хочешь, с Иваном перемолви.
– Он вернулся?
– Вернулся. С Талычой уже сговорили. Знака ждать надо.
Зевая, он ушел. Смоленский князь не двигаясь смотрел, как оплывают остатки свечи в глиняной плошке. Когда пламя, задрожав, стало никнуть, он накрыл его ладонью. Клеть погрузилась во тьму.
– Врешь, Данила, – пробормотал князь. – Это ты в лесах гниешь и мертвечиной кормишься. А мне хоть раз еще свежатины отведать… напоследок.
Он вышел в сени, где тускло мерцали на стенах масляные светильники. Спустился по изогнутой скрипучей лестнице. Отстранил холопа, сунувшегося с немым вопросом. Курмышские хоромы Данилы Борисыча были невелики. В Смоленске такие строили себе небогатые купчишки-лавошники и ремесленники. Юрий сошел с крыльца во двор, постоял, слушая. Направился к длинной низкой халупе, которую звали здесь молодечной. Из открытых узких волоковых окон несся храп с присвистом. Нижегородская дружина – полсотни отроков здесь, еще три сотни по дворам во всем Курмыше. Остальная сила Данилы – татары из Жукотина и Казани, дикая мордва, зимой бегающая на лыжах, а летом пешая. С этим – воевать против Москвы?
Юрий прошелся вдоль молодечной, повернул за угол. Навстречу выступила тень.
– Не спится, Булгак? – тихо спросил князь.
– Заснешь тут, – буркнула тень. – Не привыкши мы под одним кровом с княжьими служильцами спать. Рука сама к засапожнику тянется. Лучше б ты своего Невзора взял, он-то из дружинных. А мне свою рожу для чего светить?
– Заткнись, Булгак, и слушай. С рассветом уходи. Скажешь Головану, что я велел перейти в другое место. Пусть изгоном уводит всех на Клязьму. Всех, кроме баб и холопов.
– На Кля-азьму!.. – Булгак присвистнул. – Далековато, атаман. Чего мы там не видали? То ж владимирские края.
В руке у князя стремительно явился нож. Булгак ощутил на горле острие клинка.
– Исполнять, как велю. Будете ждать меня на Сенежских болотах. Коней запасных возьмите. Невзора завтра отошлешь ко мне. На Сеньгу придете, пусть Голован отправит двух человечков на конях во Владимир. Как начнется в городе тревога, пускай скачут к Золотым воротам. Там меня встретят. Все понял?
– Понял, – просипел Булгак.
Юрий убрал нож.
– Поживиться там будет чем.
Он выглянул из-за угла, обозрел двор. Брехал где-то пес, окликали друг дружку сторожевые. Смоленский князь не прячась пересек дворище и скрылся в доме.
7.В конце концов митрополит Фотий вынужден был признаться. Если не великому князю, то хотя бы себе: во Владимир он попросту бежал.
За два месяца житья в Москве стольный город Руси поверг владыку в греховное малодушие и уныние. Душа этого народа была темна, непроглядна и противоречива. Русские любили долгие стояния в церквах, величавые крестные ходы, блистанье куполов и деревянное узорочье храмов – и с великим усердием опустошали церковные кладовые в пользу своих хозяйств. В пояс кланялись, спорили меж собой, кому первее быть у владычной длани с крестом и благословеньем, трепетно внимали проповедям – и наговаривали великому князю, нашептывали, что митрополит-де заглядывается на княжью казну, что честное-де имение иных московских бояр ругает ворованным, что поносит-де князя поносными словесами пред своими людьми, и даже приводили на ухо те самые словеса. Вокруг града и даже в градских посадах еще не избыли следы страшного татарского разора, пустыри на месте былых дворов зарастали травой, безлюдье и скудота лезли в глаза повсюду – а на московском приречье весело, озверело сходятся толпа на толпу в кулачных боях и редко не оставляют покалеченных да убитых. Без креста ни к какому делу не приступают – а могут и срамословить, осеняясь знамением. Казнями Иоаннова Апокалипсиса их не проймешь – куда там, тут к своим казням привычные. Притерпелись и во мраке живут будто под солнцем, радуясь, любя свои тесные, сумрачные храмы…