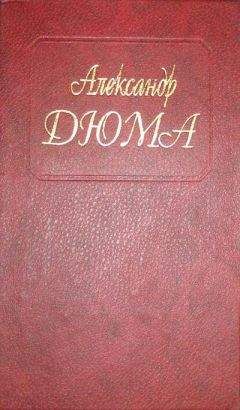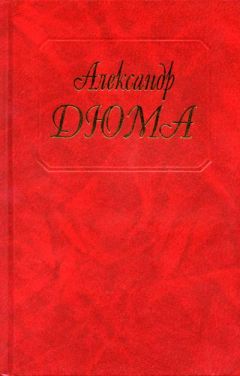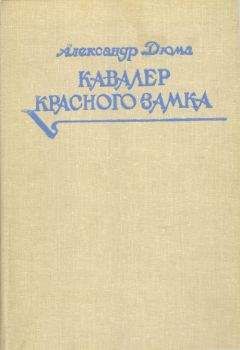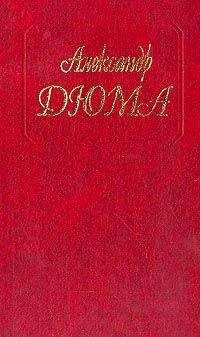Александр Дюма - Красный сфинкс
Вот стансы Ракана:
С надзвездной высоты, склонив к Олимпу лик,
Разглядывает он блистательных владык,
Фортуной избранных, не ведающих страха,
Людишек-муравьев бессчетные полки
На окровавленном комке земного праха,
Что, в суете своей, мы режем на куски.*
«Никогда еще, — говорит Таллеман де Рео, — сила таланта не проявлялась столь ярко, как в этом стихотворце, ибо, если не считать его стихов, все в нем кажется несуразным. Лицом он напоминает фермера; он косноязычен и никогда не мог правильно произнести своей фамилии — на его беду, звуки „р“ и „к“ он произносит хуже всего: первый как „л“, второй как „т“. Несколько раз ему приходилось писать свою фамилию, чтобы поняли, как она звучит».
Это был самый рассеянный человек на свете, не считая, разумеется, г-на де Бранкаса. Как-то раз он без спутников поехал на большой лошади навестить в деревне своего друга. Примерно на трети дороги ему пришлось спешиться. Не найдя подставки, чтобы вновь забраться на лошадь, он продолжал путь пешком. Возле дома своего друга он находит, наконец, подставку, садится верхом, поворачивает назад и возвращается домой, так и не повидав того, к кому ехал.
Он был своим человеком в доме г-на де Бельгарда. Однажды, вернувшись с охоты насквозь промокший и забрызганный грязью, он входит в спальню г-жи де Бельгард, думая, что это его спальня, и не замечая, что у огня с одной стороны сидит г-жа де Бельгард, с другой — г-жа де Лож. Они молчат и не шевелятся, ожидая, что станет делать Ракан. Он садится, велит снять с себя сапоги и говорит своему лакею:
— Вычисти мои сапоги, а чулки я высушу здесь. Лакей уносит сапоги хозяина. Тот снимает чулки, подходит ближе к огню и кладет один чулок на голову г-жи де Бельгард, другой — на голову г-жи де Лож. Те изо всех сил кусали губы, чтобы не рассмеяться, но в конце концов разразились хохотом.
— Ах, тысячу извинений, сударыни! — не смущаясь сказал Ракан. — Я принял вас за подставки для дров.
В день, когда он стал членом Академии, весь литературный Париж собрался послушать его вступительную речь. Каково же было разочарование аудитории, когда он вытащил из кармана какой-то изодранный листок.
— Господа, — сказал он, — я рассчитывал прочесть, как принято, мою речь, но моя белая борзая сука всю ее изжевала; вот эта речь, извлеките из нее что сможете, ибо я не знаю ее наизусть и копии у меня нет.
Пришлось не только публике, но и академикам удовлетвориться этим извинением.
Ракан, однако, весьма почитал Академию. Когда в связи с судебным процессом ему потребовался поверенный, он, не зная, хорош тот или плох, взял зятя Шаплена.
— Но почему, — спрашивала его г-жа де Рамбуйе, — вы выбрали именно его, а не кого-нибудь другого?
— Потому, — отвечал Ракан, — что, будучи зятем господина Шаплена, он кажется мне зятем Академии.
Ракан был маркиз из рода де Бёй и кузен г-на де Бельгарда.
Что касается г-на Антуана Годо, грасского епископа (он был такого маленького роста, что его звали карликом Принцессы Жюли, а маленькая мадемуазель де Монтозье — когда у г-жи де Монтозье появилась дочка — спрашивала, почему его не укладывают спать в тот же час, что и ее кукол), то, хотя его средства, выплачиваемые ему семьей и получаемые от двух епископств, составляли тридцать тысяч экю, он всегда находился в крайне стесненных обстоятельствах и вынужден был трудиться над биографиями, переводами, церковной историей, а в самые трудные минуты сочинял молитвы для людей всех сословий.
Одна из них называлась «Молитва за прокурора, а в случае надобности — за адвоката».
Представила его маркизе мадемуазель Поле, так что он был принят в доме наилучшим образом.
Знаменитости, которых мы сейчас назвали, вместе с Кольте, Конраром, Демаре, Ротру, Мере, Арно д'Андийи и Вуатюром составляли салон маркизы. Они были, если можно так выразиться, составной частью понятия «особняк Рамбуйе», ибо оно обозначало не только здание и семью, но и выдающиеся умы — тех, кто окружал эту семью и собирался в этом здании.
*Перевод Э.Линецкой.
VI. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ОСОБНЯКЕ РАМБУЙЕ В ТО ВРЕМЯ, КАК СУКАРЬЕР ИЗБАВЛЯЛСЯ ОТ СВОЕГО ТРЕТЬЕГО ГОРБУНА
Итак, вечером 5 декабря 1628 года, когда в гостинице «Крашеная борода» происходили события, с описания которых началась первая глава этой книги, все знаменитости — и те, о ком мы говорили, и еще много других, кого перечислять было бы слишком долго, — собрались в особняке маркизы не как обычные гости дома, а как особо приглашенные: каждый получил от г-жи де Рамбуйе записку с извещением об имеющем быть у нее чрезвычайном собрании.
Поэтому к ней не пришли, а примчались.
Все становилось событием в эту счастливую эпоху, когда женщины начинали приобретать влияние на общество. Это влияние, созданное в XVII веке г-жой де Рамбуйе, госпожой принцессой, г-жой де Монтозье, мадемуазель Поле, мадемуазель Скюдери, было перенесено в XVIII век Нинон де Ланкло, г-жой де Севинье, г-жой де Монтеспан, г-жой де Ментенон, мадемуазель де Лафайет, г-жой де Тансен, г-жой дю Деффан, г-жой д'Эпине, г-жой де Жанлис и пронесено сквозь Революцию г-жой де Сталь, г-жой Ролан, г-жой Тальен; в наши дни это царствование, обнимающее три столетия, увенчано королевой Гортензией, г-жой де Жирарден, г-жой Санд.
Поэзия, давшая в предыдущем веке Маро, Гарнье и Ронсара, все еще не вышла из детского возраста и лепетала свои первые трагедии, пасторали, комедии устами Арди, Демаре, Ресигье; ей еще предстояло благодаря Ротру, Корнелю, Мольеру и Расину вывести французскую драматургию на первое место в мире и довести до совершенства этот прекрасный язык, созданный Рабле, очищенный Буало, отфильтрованный Вольтером и благодаря своей ясности ставший дипломатическим языком цивилизованных народов. Ясность — это честность языка.
Великий гений XVI века — более того, всех веков — Вильям Шекспир, умерший двенадцать лет назад, был известен лишь англичанам; европейская популярность великого поэта Елизаветы — не будем на этот счет заблуждаться — возникла много позже, и никто из выдающихся умов, собиравшихся у г-жи де Рамбуйе, никогда даже не слышал имени того, кого Вольтер сто лет спустя назовет варваром; к тому же в эпоху, когда театр заполнили такие пьесы, как «Освобождение Андромеды», «Покорение вепря» и «Смерть Брадаманты», такие произведения, как «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Юлий Цезарь», «Ромео и Джульетта» и «Ричард III», оказались бы слишком тяжелой пищей для французских желудков.
Нет, это из Испании к нам пришли Лига благодаря Гизам, моды — благодаря королеве и литература — благодаря Лопе де Вега, Аларкону, Тирсо де Молина, Кальдерону.
Заканчивая отступление, возникшее само собой по ходу разговора, и возвращаясь к нашей фразе «Все становилось событием в эту счастливую эпоху», мы должны были бы добавить, что приглашение от г-жи де Рамбуйе было событием. Все знали, с каким большим старанием и с каким великим удовольствием готовит она сюрпризы своим гостям. Однажды она преподнесла его преосвященству Филиппу де Коспеану, епископу Лизьёскому, сюрприз, какого несомненно не мог ожидать ни один епископ. В парке замка Рамбуйе была скрытая густыми деревьями большая полукруглая скала, из которой бил источник. Она была посвящена памяти Рабле, часто устраивавшего здесь рабочий кабинет, а иногда и столовую. Однажды утром маркиза повела туда его преосвященство. Чем ближе они подходили к скале, тем больше щурился прелат, видя сквозь ветки что-то блестящее и силясь понять, что это такое. Однако, когда они подошли ближе, ему показалось, что он различает семь или восемь юных женщин, одетых нимфами, то есть одетых очень легко. Действительно, это были мадемуазель де Рамбуйе в костюме Дианы, с колчаном через плечо, луком в руке и полумесяцем в волосах, и жившие в доме девицы: сидя на скале, они являли собою, по словам Таллемана де Рео, самое пленительное зрелище на свете. Епископ наших дней был бы, возможно, скандализирован подобным зрелищем; но его преосвященство епископ Лизьёский, напротив, был так очарован, что, встречаясь с маркизой, непременно спрашивал ее о скале Рамбуйе. Когда г-же де Рамбуйе заметили, что в подобных обстоятельствах Актеон был превращен в оленя и растерзан собаками, она ответила, что эти случаи совершенно несопоставимы, так как добрейший епископ настолько уродлив, что если нимфы могут произвести на него впечатление, то он впечатления на нимф произвести не может, разве что способен своим видом обратить их в бегство.
Надо сказать, что его преосвященство епископ Лизьёский отлично сознавал свое уродство и готов был первым над собой посмеяться. Когда он посвятил в сан епископа Рьезского — далеко не Адониса — и тот явился благодарить его, прелат сказал ему:
— Увы, сударь, это мне надо вас благодарить, ибо, до того как вы стали моим коллегой, я был самым уродливым из французских епископов.