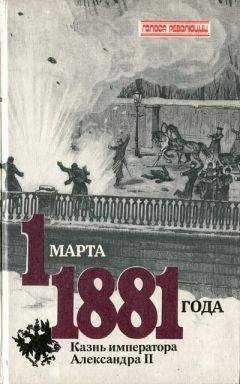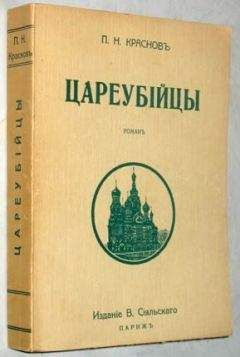Эдуард Зорин - Богатырское поле
— Ступай, пока цел, — сказал он. — А это — моя добыча.
— Верни меч, — попросил Склир. — Меня ратники засмеют.
— Не верну. Ступай.
Боязливо пятясь, меченоша выскочил из избы. Скоро за стенами под оконцами и у двери загудели голоса:
— Вор!
— Супостат!
— Выходи, вязать будем!
Давыдка сунулся в дверь, держа перед собою меч. Люди затопали, отваливаясь от избы. Испуганно зашумели:
— Да у него меч!
— Видать, мужик свирепой.
— Выходи, князь велит! — прикрикнул осипшим голосом боярин Захария. — А не выйдешь сам, силой достанем. Тогда пощады не жди.
Мать смотрела на сына тоскливыми глазами.
— Что же это будет, сынок?.. Что же это? — пролепетала она помертвевшими губами.
— Не бойся, мать, — сказал Давыдка. — Сдамся я на княжескую милость, авось голову не ссекут.
Не было у Давыдки другого выбора. Вышел он на крыльцо, бросил меч:
— Вяжите.
Тут же, словно собаки на раненом вепре, повисли на нем служки; вязали сперва с опаской, а после, когда связали, повалили на землю, стали бить кто рукоятью меча, кто ногой. Склир норовил ударить побольнее. Сам он все еще хлюпал и отхаркивался кровью.
— Стойте вы, псы, — отстранил хмельных людей Захария. — Пленник сей зело большой злодей. То Давыдка, мой закуп, князя покойного милостник. Отвезем его во Владимир, судить будем по справедливости. Много слуг наших верных сгубил — за то ему и зачтется…
Тут дым повалил от избы: верно, угольки попадали из печи на соломку, да никто на них внимания не обратил.
Все закричали, бросились тушить, да где там — хорошо просохшие бревна принялись сразу. Яркий свет выхватил за высоко приподнятыми над землей узенькими оконцами бедное убранство избы. На крыльце, будто подбитая птица, припадающая на крыло, заметалась темная фигура женщины.
— Мать! Мать! — позвал Давыдка.
Дружинники хотели удержать старуху. Но она уж взмахнула повоем, согнулась и тут же исчезла в двери, красной, как зев затопленной печи.
Давыдка, не мигая, смотрел перед собой, будто завороженный. Вот приподнялась крыша, зашевелилась и осела внутрь избы. Жаркие искры снопом взметнулись в вечереющее небо. Толпа дохнула разом, подалась вперед и тут же отпрянула… Тихо стало. Люди снимали шапки, крестились.
Перекрестился и боярин Захария; маленькие глазки его мстительно пожирали разбушевавшийся огонь… Громко потрескивали в пламени коричневые, как ржаные сухари, бревна, падал к ногам дружинников разнесенный ветром пепел.
А возле сгоревшей избы, там, где лежал связанный Давыдка под охраной свирепого с лица копейщика, все еще толпились мужики. Никто не смел приблизиться к пленнику, только кузнец Мокей, как всегда черный от копоти, протиснулся к нему с ковшом воды:
— Испей, брате.
— Ступай, ступай, — нацелив копье кузнецу в грудь, погнал его стражник.
Мокей презрительно смерил его взглядом, откуда-то из-под его руки вынырнула Любаша; перехватив ковш, склонилась над Давыдкой. Несколько холодных капель упало ему на потрескавшиеся губы. Он застонал, провел по ним пересохшим языком, но стражник ударил Любашу голоменем меча по спине.
В толпе заволновались.
Князья приказали трубить сбор — заржали кони, крутясь под копытами, залаяли собаки. Копейщики оттеснили мужиков к плетню.
Давыдку перебросили через седло, крепко привязали веревками. С заходом солнца княжеская охота покинула Заборье.
Когда выезжали за околицу, обогнали пробиравшегося по обочине Фефела. Глаза Давыдки и странника встретились. Губы Фефела беззвучно кривились в торжествующей усмешке…
Глава третья
Аленка прибежала к Никитке едва живая, сотрясаясь от плача. Упав в траву, рассказала про все, что случилось в деревне. Лежа за ручьем в березняке, видела она, как вспыхнула ее изба, как рухнула кровля.
— Братки нет, мамка сгорела, — повторяла она одно и то же.
Никитка, сидя рядом с ней, прижимал к груди ее вздрагивающую голову, кончиком убруса вытирая слезы.
— А может, и не сгорела? — спрашивал он и ловил отчаяние в ее каменеющем взгляде.
— Сгорела, сгорела, — как заклятье, шептала Аленка.
Все теперь пошло прахом. Вдвоем не прожить им в топком зыбуне — умрут с голоду. А возвращаться в деревню Аленке нельзя. Ясно же, наказал боярин Захария своему старосте следить за пепелищем.
— Подадимся в город, — сказал Никитка. — Найдем Левонтия — он поможет. Не помирать же с голоду в гнилом болоте.
Они похлебали варева, приготовленного Никиткой из остатков репы, запили его кипятком. Аленка предложила:
— Заглянуть бы к Мокею. Кузня его на отшибе.
— А не донесет старосте?
— Мокей-то?! — удивилась Аленка. Никитка не стал возражать. Девушка хорошо знала односельчан. — Хлебца бы нам на дорогу да еще каких харчей. Только идти надобно потемну.
Они старательно затоптали костер. Никитка взвалил на плечи суму с нехитрым добром, Аленка взяла его за руку и повела по болоту.
К кузне они подошли, когда совсем уже стемнело и крупные колючие звезды усыпали небосвод. Над рекой клубился плотный туман.
В кузне мерцал огонек. Аленка постучала в дверь. Никто не отозвался. Она постучала сильнее. На берегу, за кузней выросла высокая тень:
— Эй, кого бог принес?
— Аленка я, дядя Мокей, — обрадовалась девушка.
— Аленка?!
Мокей быстро спустился по тропинке.
— Аль у меня таилась?
— Не…
— Ну, заходи.
Он приоткрыл дверь. Аленка замешкалась у порога, оглянулась через плечо — в темноту. Мокей догадался:
— Не одна ты?
— Одна, дяденька…
Добродушная улыбка шевельнула черную бороду кузнеца. Он подтолкнул Аленку в кузню, а сам громко сказал:
— Заходи, добрый человек. Не боись.
Никитка вошел, низко поклонился кузнецу, поправил на плече суму.
— А говорила — одна, — ухмыльнулся Мокей. Аленка смутилась. — Ну да ладно, расспрашивать я не мастак. А догадка есть. Заходите, заходите, будете гостями…
В кузне — не в избе. Одна только лавка у Мокея. Аленка с Никиткой покорно сели на лавку. Мокей растолкал спавшего в углу на груде тряпья юноту. Мальчонка приподнялся, протирая заспанные глаза, с удивлением уставился на нежданных гостей. Узнал Аленку — улыбнулся, на Никитку покосился недоверчиво.
— Сходи в погреб, принеси квасу, да хлеба, да мяса, — наказал ему Мокей, а сам сел на наковальню, почесал грязной пятерней в густой бороде. Когда мальчонка вышел, спросил: — Не ко Владимиру ли поспешаете?
Острые, живые глаза придирчиво ощупали Никитку. Наметанно прикинул — по обличью человек свой. А от кого таится? От бояр?..
— Ко Владимиру, дяденька, — кивнула Аленка. — Не с руки мне ноне в деревне оставаться. Одна я теперь.
— Что верно, то верно, — согласился Мокей. — Слышал я, как наказывал боярин старосте: Аленку, сестрицу Давыдки, сыскать и гнать на усадьбу.
— Ой! — испуганно вскрикнула Аленка.
— А братика твово увезли с собой, — продолжал кузнец.
Девушка заплакала, и Мокей вышел покуда из кузни. Когда вернулся, Аленка уже успокоилась. Скоро прибежал юнота со жбаном холодного квасу и с едой, завернутой в холстину.
Сели есть. Молчали. Пока ели, угольки в горне подернулись пеплом, от двери засквозило влажным холодком.
— Ночевать у меня будете? — спросил Мокей, — Али пойдете по темноте?
Хорошо у Мокея в кузне, тепло. После еды разморил сон. Прилечь бы сейчас, отдохнуть. Но Никитка решительно взялся за суму.
— Спасибо за хлеб-соль, — поблагодарил он. — Нам — в дорогу.
Аленка тоже поднялась. За день лицо ее побледнело, осунулось; только голубые глаза, как и прежде, светились глубокими озерами. Но Мокей разглядел печалинку на самом их дне. Тяжело молодой-то, сразу вдруг сиротой осталась. Хорошо, парень с ней рядом, а то хоть в омут головой.
— Верно рассудил, молодец, — похвалил Никитку Мокей. — В Заборье делать вам нынче нечего. Ну а ежели нужда заставит оборотиться, не проходите мимо моей кузни. Будет вам здесь и хлеб, и соль, и ночлег…
Выйдя за дверь, они сразу окунулись в беспросветную мглу. Воздух был густой и темный, вытяни руку — пальцев не увидишь.
— Дороги здесь Аленке знакомы, — глухо сказал Мокей. — Ты, Аленка, держись на тот борок, что у большой старицы. Выберетесь под утро к муромской дороге, а там недалече. Ежели что, хоронитесь в лесу.
— Спасибо, дяденька, за наказ, — поклонился кузнецу Никитка. — Жив останусь, вовек не забуду твоей доброты.
— Ну-ну, — подтолкнул их Мокей на тропу. — Ступайте с богом…
Долго шли Никитка с Аленкой — сначала берегом Клязьмы, потом лесом. В лесу было темно, как у Бездонного озера. Перебрались через болото, а утром, едва забрезжила над деревьями ранняя зорька, вышли к Пойменному городищу, обнесенному плотным частоколом, за которым сполошно лаяли собаки.