Бронислава Островская - Геройский Мишка, или Приключения плюшевого медвежонка на войне
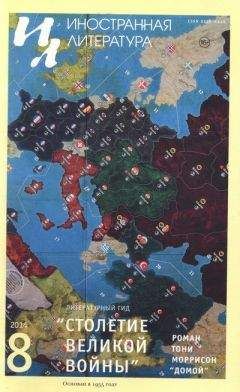
Обзор книги Бронислава Островская - Геройский Мишка, или Приключения плюшевого медвежонка на войне
Бронислава Островская
Геройский Мишка, или Приключения плюшевого медвежонка на войне
Для детей от десяти до ста лет
Фрагменты повести[1]
[В львовской семье Медведских, у маленькой Гали и маленького Стася, появился плюшевый медвежонок. Дети дали ему имя и снабдили красивым ошейничком с надписью «Мишка Медведский, Львов, 1910». «Пятисотая годовщина Грюнвальда, — заметил при этом умный Стась. — Отличная дата рождения»[2]. Летом четырнадцатого семья уехала на каникулы во Францию. Мишка остался во Львове.]
Война
В то утро, памятное утро 29 июля 1914 года, для меня, как обычно, открыли окно и квартиру залило волной теплого воздуха и солнца. Все дремало.
Внезапно прямо за окнами пробежала звенящая, пугающая дрожь. Она была тихой, но такой жуткой, что воздух содрогнулся, сон улетучился и все вокруг напряглось в ожидании. Это звенели телеграфные провода.
Необычайной, страшной, похоже, была весть, которую они передавали этой стонущей дрожью — словно молнию, от столба к столбу. Мне давно уже была знакома их манера переговариваться, ведь я годами рассылал свои мечты по их чутким, весь мир опутывающим нитям. Но никогда еще не слышал я такого звука. И никогда еще на заданный мною вопрос не получал такого резкого, неожиданного ответа:
— Не мешать!
Это противоречило всем принятым в мире вещей обычаям. Что происходит? Я в изумлении ждал. Вдруг с улицы издалека донесся крик. Крик, который не стихал, но, быстро приближаясь, разрастался, растягивался, множился.
Я напряженно вслушивался. Смотрел во все глаза. Под окнами уже бежали разносчики газет с экстренными выпусками. Они неслись гурьбой, запыхавшиеся, охрипшие, наперебой выкрикивая невероятное известие.
Первое слово, иностранное, яростное, влетело в комнату, отразилось от стен, взметнуло солнечную пыль и с криком полетело дальше — приводить в смятение город.
— Мобилизация!
Но вслед за ним ворвалось второе — простое, страшное и такое огромное, что заполнило собою комнату, залило всю улицу и охватило целый свет.
— Война!
Не помню, как долго никто из нас не осмеливался прервать молчания. Разносчики газет давно уже были далеко, а вслед за ними летело по улицам испуганное бормотание громом пробужденного города.
Я поглядел на комнату. Несколько часов переменили ее до неузнаваемости. Каникулярного оцепенения как не бывало. Все настороженное, торжественное, строгое. По старинному оружию, развешанному на стенах, пробегают резкие, стремительные блики. И — тишина. Но до чего же непохожая на прежнюю, будничную!
Мы ждем. Кто выскажется первым? Наконец-то! В старомодном дедовском письменном столе вздохнул самый дальний, позабытый уже тайник. Глубоко-глубоко, словно человек, пробудившийся от тяжелого, крепкого сна.
— Снова война!
Ах, так он помнит? Знает? Расскажет?
— Знаю. Знаю. Тут у меня лежал крест «За заслуги» времен наполеоновских войн — уланский крест за Сомосьерру. Я хранил приказы Национального правительства и белую кокарду, окровавленную под Гроховом. И до сих пор прячу пачку пожелтевших писем, тайно пронесенных лесами в шестьдесят третьем…[3] Этого мало?
— Это не наша война! — резко проскрипел старый, красного дерева шкаф. — Ты напомнил мне о том, что когда-то тут висело, — о повстанческих кафтанах. Потом уже здесь хранили только обычную одежду. Порою чужие мундиры. Нет больше наших мундиров и нет больше наших войн.
— Но еще есть мы! — отозвалась яркой вспышкой старая уланская сабля.
— И уже есть мы! — задиристо тявкнуло новенькое пехотное ружьецо, радость и гордость Стася.
Теперь я знал. Знал все, хоть не знал ничего. Ни какая это война, ни где, ни с кем. Но не зря прошли уроки истории, идейные споры, не зря я много раз слышал, как горячо бились детские сердца, — во мне вдруг возникла твердая уверенность. И я изумился, когда то же самое громко высказал висевший среди оружия старый и почерневший рыцарский медальон.
— Всякая война — наша, если можно сражаться за Польшу.
— Вы о чем? Вы о чем? — тщетно допытывалась японская ваза. Никто ей не отвечал. Только пожали плечами две французские фарфоровые статуэтки. Все предметы погрузились в размышления.
Я воспрял духом, потрясенный и счастливый. По мне будто забегали электрические искры. Начинается новая жизнь! Каждой, даже самой маленькой своей частицей я чувствовал одно — чувствовал безошибочно. Великое завтра — пришло. <…>
Внешний вид города ничего не объяснял. Люди как потерянные сновали по улицам. На углах разгоряченные группки стояли перед большими разноцветными афишами.
А мимо проходила армия.
Подобная жуткой серо-голубой, сверкающей стальными чешуйками винтовок змее, она тянулась, тянулась без конца под чужие, бесчувственные звуки австрийских горнов и барабанов. Я видел проходящих из окна — похожих на оживших оловянных солдатиков Стася. Но куда они идут? Против кого? Никто из нас не знал.
Единственной компетентной особой мог быть телефонный аппарат, стоявший в углу, но он всегда держался столь неприступно, что я не любил вступать с ним в разговоры.
Любопытство, однако, пересилило. С самой что ни на есть изысканной вежливостью я обратился к нему, спрашивая, не знает ли он… И к своему величайшему изумлению, получил исчерпывающий ответ.
— Проинформировать? Да, да. Мы можем вас проинформировать. Что за война? Австрийская, разумеется, воюет Австрия. С кем? С Сербией. Почему? Убит австрийский эрцгерцог Фердинанд в Сараеве. Далеко. Так точно. Пока только это. Но вскоре мы сможем сообщить вам новые подробности. Наши аппараты работают. Мы ждем. Так точно. К вашим услугам. До связи.
Он любезно блеснул своей трубкой и смолк.
Телефон делится новостямиДаже этакий туз, как телефонный аппарат, был настолько впечатлен величием момента, что, позабывши о капризах, охотно делился с нами ошеломляющими новостями. Возможно, ему нравилось поражать нас собственным всеведением. Как бы то ни было, с той минуты мы знали обо всем. На висевшей рядом с телефоном поблекшей настенной карте внезапно вспыхнули цвета двух воюющих государств. Желтое поле Австрии и розовое Сербии буквально били по глазам, дергались, безжалостно кусали друг друга. Это завораживало и пугало. Мы ощущали, что к нам приближается нечто невиданное…
Ну… ну… День. Ночь. День.
Что это? Телеграфные провода за окнами стонут опять. Телефон, никем не спрошенный, вновь подает свой голос. Нервно бросает всего лишь два слова:
— Германия с Россией.
По городу несется новый крик.
На карте загораются еще два цвета: огромное пятно русской зелени проливает свою ярь-медянку на ярко-голубые, словно синька, германские границы. Ну теперь-то всё?
Нет. Еще более страшное, невыносимое, напряженное ожидание. И наконец:
— Австрия с Россией.
Город обезумел. По улицам поплыли толпы. Зашелестели флаги. Зазвучали голоса. Задыхаясь от спешки, пролетают дни, принося всё новые известия.
— Франция с Германией.
— Англия.
Карта полыхала.
А мы? А Польша? Польское государство, которое Стась нарисовал карандашом на карте, горит тремя различными цветами. С кем же мы? Против кого? Делается горько.
— Против всех трех! — взрывается горячая уверенность.
— С кем угодно, только бы за Польшу! — выносится решение.
Горечь улетучилась. Я знаю — чему быть, того не миновать, но то, чего не миновать, — прекрасно. <…>
[Мишка видит солдат-поляков.]
Был дождливый, унылый день, когда в проползавшей под окнами серо-голубой змее австрийских войск я впервые увидел их ряды.
Они проходили и пели. Доносились невеселые слова:
Дети Польши в день ненастный
По тропе идут опасной,
Ждут скитанья нас и горы,
К вам вернемся мы не скоро.
Я задрожал. Идут. Идут скитаться, воевать, погибать. Я впервые понял, понял по-настоящему, до конца, что над каждым из этих славных одетых в серое ребят нависло нечто страшное, непонятное — то, что люди называют смертью.
Было мне грустно, но было и хорошо. Я был горд. Меня безудержно тянуло к ним. Я чуть не выпрыгнул из окна.
А песня разливалась — молодая, исполненная веры:
Знай, Малгося, дорогая,
Там не каждый умирает.
Может, станется,
Я вернусь здоров
И увижу город Львов!
— Дай вам Бог! Дай вам Бог! — всем сердцем откликался я на эти слова.
— Дай вам Бог! — восклицали стены домов, мимо которых проходили серые шеренги.
— Дай вам Бог! — гудели под ногами камни булыжной мостовой.



