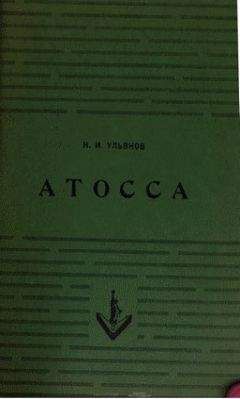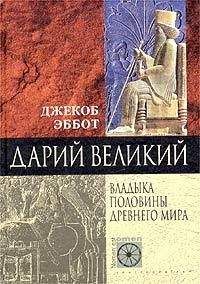Арсен Титов - Под сенью Дария Ахеменида
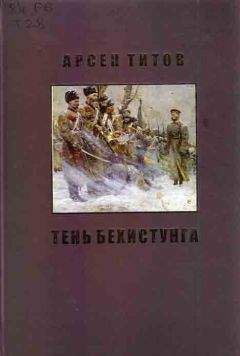
Обзор книги Арсен Титов - Под сенью Дария Ахеменида
Арсен Титов
Под сенью Дария Ахеменида
Глава 1
В первый день зимы прошлого, пятнадцатого, года мы вошли в Хамадан прямо с противоположной стороны, нежели чуть более двух тысяч лет назад в него вошел Александр Македонский.
У нас за спиной были Энзели, Решт, Менджильский мост, Казвин, Тегеран, Элче, Султан-Булаг, Аве ― то есть мы позади себя оставили то, что этому герою древности еще предстояло. За его спиной были в современном названии Ханекин, Каср-и-Ширин, Сармиль, Керинд, Керманшах, Бехистун, Сахне, Кангевер, Бидессур, Асад-Абад, Зере, Шеверин ― то есть то, что предстояло нам. Мы пересеклись в Хамадане, при нем называемом Экбатаной, и всякий из нас, не сговариваясь, ступил на путь другого. Но всякому из нас достался при этом свой путь.
Думается, без какого-либо толмача понятно, что речь идет о Персии. О том же, как мы в ней оказались, я попробую сказать самым кратким образом. Но начать речь мне придется едва ли не со времен царя Гороха, то есть с того момента, когда я оставил аул Хракере.
Нас с сотником Томлиным прежде всего доставили в Батум, и батумцы решительно захотели оставить нас у себя. Их предположение о быстрейшем нашем излечении под их неусыпной и сердечной опекой, высказанное более всех шумным поручиком Шерманом, безусловно, победило бы. Но препятствием стал влажный батумский воздух, которого не смогли перенести мои отмороженные легкие. Генерала Михаила Васильевича Алимпиева в городе не было. Он получил назначение командиром формирующейся бригады. Однако сменивший его в должности начальника штаба гарнизона подполковник Караулов, происходивший из терских казаков и отличившийся в Сарыкамыше, соотнесся с ним. Михаил Васильевич тотчас хотел настоять на отправке нас в Крым, но вовремя вспомнил о германских подводных лодках и крейсерах, без разбора отправляющих на дно наши суда даже под Красным Крестом.
― В таком случае я полагаю предоставить ему собственный выбор. Хотя в Тифлисе сейчас слишком жарко. А вот в Борджоме было хорошо! ― сказал Михаил Васильевич.
Я выбрал Горийский госпиталь. А почему я выбрал именно его, не знаю. Вернее, я знаю, но не совсем. Или знаю, но не точно. Или знаю, но не могу объяснить. С самой минуты, как я осознал, что я остался без нее, без моей Ражиты, то есть лишь я осознал, что остался на этом свете один, я потянулся в Горийский госпиталь, будто мог там обрести свой дом, свой угол, который бы дал мне счастье забыться. Я понимал, что было подло требовать отправки нас в Горийский госпиталь, ― по сути, к Ксеничке Ивановне. Но я потянулся туда. И слабых моих сил не хватило этой тяги утишить. Я опять походил на избалованного ребенка или, сказать точнее, пакостливого ребенка. Ведь я уже стал понимать, что мне никогда никого не будет надо. Во мне осела пустота. Она оказалась мучительней физических страданий, которые хотя бы были переносимы тем, что отбирали силы на себя. А пустота не стала давать мне ни секунды отдыха. Она распирала меня так, что я ощущал себя бочкой и даже чувствовал сдавливающие меня ободья этой бочки. От физических страданий я хотя бы лишался сил и впадал в забытье. От пустоты я никуда уйти не мог. Я знал, что нам не свидеться даже там, где она была сейчас. Ведь я был христианином, а она мусульманкой. Да и более того, я предполагал, что там, где якобы она сейчас была, то есть на небесах, вообще нет ничего, нет ни ее, нет ни самих небес. Но я стал думать, не принять ли мне мусульманство, чтобы хоть этаким шагом оставить ее во мне самом.
Еще в гимназии мой одноклассник Сергей Фельштинский, выкрест по родителям и уже во втором поколении православный человек, после прочтения “Тараса Бульбы” признался мне, что его пленил образ Андрия ― не Остапа, как бы следовало ожидать по общей нашей ребячьей оценке, а именно Андрия.
― Вот он ― единственный настоящий образ! Он за любовь пошел на гибель! ― в полном убеждении сказал мне Сергей.
― Он предал товарищей, Сережа! ― попытался я разубедить его. ― Ты же помнишь, как сказал Тарас: “Нет уз святее товарищества!”
― Боря, нет! Андрий подлинный рыцарь. За миг обладания прекрасной своей возлюбленной он пошел на гибель. Ведь он знал, что ему придется выйти против своих и, конечно, погибнуть. Но он пошел на это. Он пошел на это, Боря! Я хотел бы погибнуть такой смертью! ― неколебимо сказал Сергей.
И теперь, то есть не теперь, а тогда, в июне позапрошлого года, я стал понимать Сергея, кстати, как написала мне сестра Маша, ушедшего в армию вольноопределяющимся и получившего в Карпатах тяжелое ранение.
Я лежал недвижный, весь обернутый в бинты и похожий на младенца Николу с иконы, а сам мечтал о мусульманстве, о продаже души ― только бы обмануть себя верой о встрече с ней хотя бы там, после смерти. Я не верил в небеса, но лежал и мечтал о них.
Уже потом, когда я стал выходить в город, я пришел к сапожнику Вахтангу, персу, в прошлый раз сшившему мне сапоги. Он узнал меня. Я попросил научить меня какой-нибудь мусульманской молитве, любой, какую он знает. Он просьбы сильно испугался. Он, кажется, все понял так, что я пытаюсь вызнать его лояльность к нам. Отношения наши с Персией к той поре стремительно портились. Персия была буквально наводнена или, вернее сказать к ее безводному климату, как песком, была засыпана различного рода бандами, германскими и турецкими агентами, бесцеремонно толкающими персидское правительство, шаха и обывательские массы против нас. Как раз в эти дни был убит наш вице-консул в Персии Александр Кавер. Многие наши миссии подверглись нападениям, оставили свои места и искали защиты в Казвине, городе, где располагалась персидская казачья бригада полковника Прозоркевича, та самая бригада, которой ранее командовал генерал Ляхов и в которой служил Саша. Сообщалось, что в Персию сквозь малочисленную завесу казачьих постов из нашего Туркестана бегут немецкие и австрийские военнопленные, сбиваются в боевые подразделения, обучают местные племена современному бою. С турецкой же стороны в Персию постоянно прибывают регулярные части.
В такой обстановке мой визави, потомок Дария, гонявшегося за скифами в оны годы, сапожник Вахтанг, жутко моей просьбы испугался, и я ничего добиться не смог. Пустота осталась, хотя со временем чуть поослабла и утишила мое желание превратиться в Андрия Бульбу.
Кстати, нападение на мой аул столь сильного отряда четников возбудило наше командование. Губерния пошла писать ― то есть плешивые штабсы и прокурорские чины сели на нас с сотником Томлиным верхом, взнуздали самыми суровыми мундштуками. Но в конце концов мои действия по командованию гарнизоном и управлению аулом были признаны отвечающими уставным и инструктивным нормам, хотя было объявлено нарушением этих норм переложение командования гарнизоном в ту ночь на подпоручика Леву Пустотина. Но зачтено мне было в заслугу то, что я своим поступком отвернул аул от четников.
Вот так было со мной. Мои руки, пробитые гвоздями, удалось спасти. Кто-то из четников постарался прибить меня, но он не задел сухожилий. Более-менее восстановился и нос. Из прямого он стал криво-горбатым, с поперечным шрамом. Но это было лучше, нежели он остался бы сплющенным, как часто остается от перелома.
Не то было с сотником Томлиным. Обморожение его оказалось непоправимым. Ему отняли несколько пальцев. Раны гнили. Несмотря на боль, жуткие бытовые неудобства и душевные терзания от сознания своей инвалидности, он держал себя так непринужденно, будто ничего не случилось. Он даже был доволен оборотом дела и говорил, что теперь сравнялся со своими бутаковцами.
― Они все померзли. Ну и я будто с ними померз! ― говорил он.
Он подлежал увольнению со службы. Я уговаривал его согласиться на мое ходатайство перед генералом Юденичем о разрешении ему службы. Он отказывался и выходил из себя.
― Да не надо мне никакой службы, Лексеич! ― отказывался он.
Однако, когда на мой запрос пришел положительный ответ, он внимательно и как бы что-то в уме считая поглядел на меня.
― В службу так в службу! ― согласился он, а увидеть, доволен он или не доволен, было нельзя.
Вообще, он оказался несколько другим, нежели я мог предположить. Он был умным и образованным, всегда спокойным до холодности. Наши отношения были глубокими. Но с его стороны их нельзя было назвать приязненными. Я порой искал, отчего при этих отношениях он меня держится. Объяснить это только его инвалидностью и перспективой увольнения из армии, если бы я за него не ходатайствовал, было неправильным. Служба, конечно, была его жизнью. Но он ни разу даже намеком не поблагодарил меня. А порой мне казалось, что он за это ко мне даже в претензии, особенно когда был пьян. В пьяном виде он чаще был непереносим, нежели сносен, и мог позволить себе гадости.
― Ну что, ваше высокоблагородие, ― начинал он говорить о том, как во мне все плохо вплоть до моего академического образования, раннего моего чина и ордена. ― Да и имя-то тебе, ваше высокоблагородие, дали соответствующее: Боооренька! ― куражисто говорил он, хотя ничего “соответствующего”, то есть, надо полагать, очень уж неприличного, в моем имени не было.