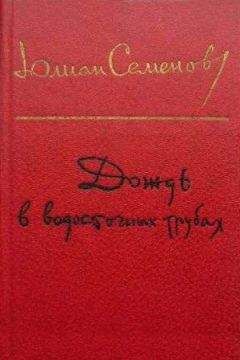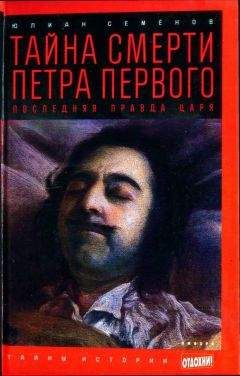Юлиан Семенов - Смерть Петра
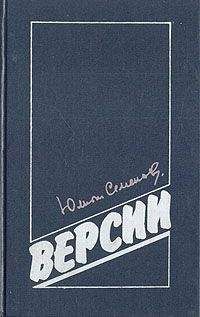
Обзор книги Юлиан Семенов - Смерть Петра
Юлиан Семенов
Смерть Петра
Часть I
«Сир!
Событие, кое привлекло внимание здешних иноземных наблюдателей при дворе русского императора, было конечно же заключение брачного договора между дочерью Петра шестнадцатилетнею Анною и герцогом Голштинским, случившееся в ноябре сего, 1724 года.
Посланники, обмениваясь между собой суждениями, отмечали прежде всего то, что брак русской принцессы с голштинским герцогом есть весьма дерзкая политическая акция Петра, которой он родственно поддерживает того, кто, будучи сыном старшей сестры шведского короля Карла, вправе претендовать на скандинавский престол.
Притом кое-кто трактует сей неслыханный дотоле в истории России брачный союз как попытку Петра выстроить надежный аллианс со Швецией, в коем он весьма заинтересован, ибо знает, сколь много трудов прилагают Лондон и Париж, дабы оторвать Стокгольм от России, сделав саму идею дружественности между двумя государствами невозможною.
Мне, однако ж, сдается, что брак между Анною и герцогом Голштинским есть операция еще более глубокая и рискованная, чем о сем говорят ныне, ибо юный герцог никогда не скрывал своих притязаний на Ганновер, а ведь в Лондоне правит ганноверская ветвь, которая никогда с притязаниями юного герцога не согласится.
Отчего же Петр решился на столь смелый и рискованный шаг?
Осмелюсь, ваше высочество, выдвинуть на ваш милостивый суд свой консенс.
Поскольку Петр действительно превыше всего радеет о благе России, свой интерес не блюдет, об персоне собственной не думает, хоть детей, Анну и Лисавет, любит нежно, то вполне можно предположить, что император сим шагом своим, весьма горестным для родительского сердца, решил оказать нажим и на Данию, которая по сю пору отказывается внять просьбе Петра и не взимать «зундскую пошлину» с российских торговых кораблей, идущих из Питербурху в Антверпен и Лондон, через Зундский пролив.
Подать, взимаемая датчанами, значительна и весомый урон наносит как престижу, так и казне России.
Петр, полагаю, предпринял лишь первый шаг в своей «Балтийской политике», а каков будет шаг последующий – предсказать трудно, но что он случится, – зная государственный характер русского императора, – сумлеваться не приходится: вопрос лишь в сроке.
Остаюсь вашего высочества покорнейшим слугою,
Людвиг Хоорст.
Декабря, третьего дня, года 1724-го».
* * *«Генваря 1725 года, шестого дня.
Я, доктор медицины Блументроост, провел очередное обследование здоровья августейшего пациента и нашел нижеследующее:
1. Обычные для осенне-зимней непогоды бронховые тяготы в этом году так же проявлялись через озноб и некоторое повышение температуры организма.
Однако же втирание горячего гусиного сала с тертым чесноком вдоль по спине и в верхние части груди – правую и левую – принесли желаемый эффект, озноб прошел, а температура понизилась до уровня, принятого почитать за нормальный.
2. Осеннее промывание олонецкими и московскими минеральными водами пользы дало поболее, нежели чем лечение карлсбадскими источниками. Тем не менее августейший пациент изволит жаловаться на жжение во рту наутро после ассамблей, даже не глядя на то, что сентябрь месяц был отдаден одним лишь промываниям желудочного тракта.
Предписанное употребление капель, составленных из выжима сока ягод облепихи и шиповника, покудова облегчения не принесло, но ежели на ассамблее Кубок Большого Орла пит не был, досадного ощущения во рту и некоторого жжения не ощущается, из чего можно заключить, что органических изменений в кишках и печени не усматривается.
3. Жалоба августейшего пациента на ломоту в затылке накануне перемены к непогоде, дождю со снегом, или же, наоборот, к солнцестою объясняется тем, что атмосфер давит на кровь и оная выше обычной нормы поднимается, заполняя мозг в избытке.
Однако ж пьявки, прикладываемые на загривок августейшего пациента, в течение часа боль снимают, и наступает сон, после коего следует полное облегчение при некоторой слабости, проходящей к утру следующего дня.
4. На тринадцатое генваря сего, 1725 года назначен концилиум, который должно провести перед выездом августейшего пациента в Ригу.
Профессор, доктор медицины
Блументроост
* * *7 января 1725 года1Последние два месяца Петр спал мало.
Пробуждался он теперь не в три часа, как прежде, до петухов еще, а в полночь.
Первое время он неподвижно лежал в постели под белой буркой, подаренной ему Багратионами, глаз не раскрывал, полагал, что удастся еще подремать, но по прошествии недели понял – с прошлым покончено; видимо, началась бессонница; куда ни крути – шестой десяток; то, что раньше переносил, ныне уж не мог.
«И мужание и старение, – думал Петр, – происходит в одной мете времени, а поди ж ты, как долог день в детстве и сколь быстролетен к старости!»
Поднявшись, он зажигал свечу, садился к столу, много читал, правил рукописи, держал корректуру «Санкт-Петербургских ведомостей»; вспоминал маменьку, братца Ваню, дядьку Артамона Матвеева; остро чувствовал запахи детства – воск, свежевыпеченный хлеб, сестрицыны благовония; близко виделись ему узоры льда на узких стрельчатых слюдяных оконцах в кремлевских палатах: этот кружевной лед приятно было облизывать языком, сладостно таясь от мамок, развлекавших его песней, игрой в жмурки и пряталки со считалочками на «лебедь – белый, гусь – сизый».
Петр вспоминал, как Измайловская мамка Надежда, самая любимая его – толстая, высокая, ласковая, – кормила поутру горячими оладьями со сметаной и медом; масло он отчего-то не жаловал, называл «склизким», норовил незаметно помазать им стол, чтобы блестело дерево, а вот мед из Воронежа (золотистый; пчелы лугом кормятся, мятой, липой и шалфеем пахло, когда вскрывали берестяные жбаны) поедал ложками; сметану велел разбавлять теплыми желтыми сливками, чтобы «ножик в ней не торчал»; а еще нравилось ему, когда приходили караваны с Волги и на стол подавали стерляжью желтую икру и розовую рыбу, чуть присоленную, – во рту таяла; на масленой неделе мог съесть не менее взрослых; маменька-покойница радовалась: «Государь наш батюшка горазд не только умом да смекалкой, но и брюхом мужицким, – двадцать восемь штук, да с икрицей, не каждый такое осилит…»
Лицо маменьки Петр видел чуть что не каждую ночь теперь; она была очень близко; глаза ее громадны, и в них по-прежнему крылась тайна; как, повзрослев, он ни пытался расспрашивать – матушка замыкалась, испуганно шутила, говорила безделицу, целовала за ухом, а потом, пряча слезу, шептала: «Сиротинушка ты мой длинноногий, орелик ты мой горный…»
Матушка отчего-то появлялась за мгновенье перед тем, как проснуться; правда, несколько раз он видел исхудавшего, серо-голубого братца Ивана; плакал во сне, когда явился ему двухлетний Петр Петрович, сыночек ненаглядный, – не уберег, нет прощения от бога, за мои грехи взял самое святое, что было, – наследника, продолжателя, кровушку родную! Один раз вскинулся в ужасе оттого, что сестра София склонялась над ним, щекочет распущенными волосами, а вместо зубов – клыки; ведьма, бесовка, хоть в глазах слезы, а пальцы добрые, подушечки мягкие, аж коже холодно, как нежны…
…Но сегодня, генварской ранней темью года 1725-го, Петр никого не увидел во сне – ни маменьки, ни братца, ни даже Софии (из живых-то и раньше никто не являлся ему, только покойники) – и проснулся, будто кто толкнул локтем; часы пробили час с четвертью; поднялся с кровати тяжело, натянул толстые носки, заштопанные давеча Мишкой; умылся, пощупал щеки, решил сказать денщику Василию Суворову позвать цирюльника; зажег вторую свечу (три никогда не держал, считая расточительством) и сел к столу – править прожект, над которым сидел последние три недели и про который не знала ни одна живая душа.
…Он сел к столу как раз в тот момент, когда первый лорд Великобритании сэр Александр принял в своей резиденции шефа Адмиралтейства сэра Дэниза, – все говорили об этом человеке как о вероятном кандидате в премьер-министры, несмотря на его молодость – всего пятьдесят пять лет.
По Гринвичу было девять пятнадцать. Только-только отзвонил Большой Бен; только-только начали набирать силу балы, – во французском посольстве праздновался день рождения наследника, а у хозяина верфи «Грейт» – помолвка внучки с португальским капитаном Магелланом, потомком известного первопроходца; только-только взошло к апогею веселье простолюдинов в пивных и портовых кабаках, подогретое добрым янтарным пивом и пенистым черным портером; только-только начались споры в клубах о сегодняшних дебатах в палате общин по поводу корректив в морском праве; только-только закончили работу журналисты, отправляясь из своих редакций на угол Флит-стрит, к Полу Веккерсу, чтобы выпить там традиционную чашку настоящего кофе из Америки; только-только Исаак Ньютон вышел из дома прогуляться перед сном по улице, освещенной долгим рядом фонарей, – будто светлячки в ночи; только-только опустился занавес театра, – режиссер Джордж Вэдфорт предлагал зрителям новое прочтение «Гамлета», созвучное, как ему казалось, нынешнему времени, показывая не мстителя, но нервического наследного принца, которого не дело интересует, а лишь мысль – сама по себе, очищенная от суеты; только-только пограничная стража запретила, вывесив три фонаря, вход в лондонскую гавань десяти голландским, двум испанским, французскому, ганзейскому и русскому судам; только-только стал успокаиваться огромный город на берегах Темзы…