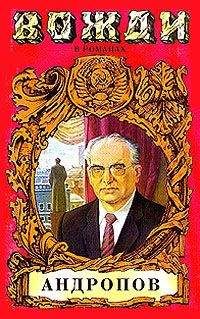Константин Симонов - Товарищи по оружию

Обзор книги Константин Симонов - Товарищи по оружию
Константин Симонов
Товарищи по оружию
Глава первая
Над монгольской степью пылал беспокойный и яркий, полосатый апрельский закат. Верхняя полоса была черно-фиолетовая, под ней синяя, под ней зеленая, еще ниже желтая, переходившая в нижнюю, ярко-багровую полосу, которая лежала на самой земле. Закат обещал ветер, но сейчас было так тихо, что каждая травинка в степи стояла отдельно и неподвижно.
За последним: домом городка сразу начиналась степь, она тянулась до горизонта, скрывалась за ним, и, глядя на нее, трудно было представить себе, как далеко она шла и где кончалась.
Последний дом городка был почтой. Капитан Климович зашел туда, как всегда, пятнадцатого числа, чтобы отправить теще в Бобруйск заказное письмо, подтверждавшее перевод денег по аттестату. Он сдал заказное, получил два письма, пришедших на его имя, – одно от тещи и второе из Москвы, тут же, на почте, проглядел их, послал в Москву ответную открытку с поздравлением к Первому мая и, выйдя на воздух из маленького, душного домика почты, несколько минут постоял, глядя в степь, на багровый закат.
Он смотрел на закат и, к собственному удивлению, все никак не мог оторваться от этого зрелища, достаточно обыденного для человека, второй год живущего в Монголии.
– Вот так и начнется, – проговорил Климович.
Слово «начнется» относилось к войне, хотя если бы он спросил себя, почему он подумал так именно сегодня, глядя на этот закат, то едва ли сумел бы дать связный ответ на собственный вопрос.
Монгольский городок, где танковая бригада стояла уже второй год, в одном гарнизоне с бронедивизионом монгольской кавалерийской дивизии, был совсем не похож на город в том понимании, в каком для Климовича были городами Чита, где они стояла до этого, или Бобруйск и Термез, где он служил еще раньше. Городок стоял среди необозримой травянистой пустыни Восточной Монголии. От него уходили три дороги: хорошо накатанный западный тракт на Улан-Батор, тракт на северо-восток, в пятистах километрах отсюда пересекавший, близ станции Борзя, советскую границу, и слабо наезженная дорога на восток, в сторону Маньчжурии.
Городок так мало возвышался над степью, что за пять километров были видны лишь мачты радиостанции. Кроме казарм, в городке было два десятка одноэтажных домиков, где жили командиры с семьями, несколько домов, принадлежавших монгольским гражданским учреждениям, две лавки монгольской кооперации и длинный глинобитный барак – кино.
Вокруг домов по степи были разбросаны большие, круглые, теплые, с железными печками внутри, монгольские юрты. Они-то и составляли город.
Бригаду перебросили сюда из-под Читы в начале сентября 1937 года, за неделю до срока, который японцы наметили для внезапного вторжения в Монголию.
Одной из частей, вступивших тогда в Монголию в соответствии с протоколом о взаимной помощи, была бригада, где служит Климович. Вторжение не состоялось потому, что японцы в тот год планировали операцию против одной монгольской армии, без расчета на столкновение с советскими войсками. В следующем году произошли события у озера Хасан, а что могло принести это третье лето – лето 1939 года, – трудно было заранее скачать. Во всяком случае, бригада уже полтора года стояла здесь в полной боевой готовности.
В прошлом году отпуска командному составу отменили; имелись основания предполагать, что их отменят и в этом. Правда, последние месяцы на границе было сравнительно тихо, если не считать угонов скота и перестрелок кавалерийских разъездов. Но эта тишина ровно ничего не значила.
Стремясь отделаться от мысли, с которой он только что смотрел в степь, на закат, Климович шел по улице и гадал – есть ли шансы на тихое лето и, следовательно, на отпуск осенью?
До квартиры, где стоял Климович, предстояло пройти больше двух километров, и он торопился скорей отшагать их. Начинало стремительно темнеть, батарейка в фонарике была, по его расчетам (а расчеты у него всегда были точные), на исходе, г, пройдя два квартала, он упрекнул себя за потерю времени, ушедшего на бесцельное созерцание заката, что не входило в его привычки.
Стало совсем темно. Юрты слились с темнотой; лишь кое-где смутно белели оштукатуренные дома. Климович зажег фонарь, и слабое белое пятнышко побежало впереди него, как собака на коротком, туго натянутом поводке.
Батарейка, как и предполагал Климович, кончилась раньше, чем он дошел до дома. Было уже восемь вечера. Он поморщился, подумав, что жена теперь непременно упрекнет его за то, что он пошел прямо на почту, не заходя домой, и скажет, что письмо ее матери насчет денег можно было послать и завтра. А ему не захочется объяснять, что он предпочитает делать эти вещи так же аккуратно, как аккуратно платят жалованье ему самому.
– Здравствуйте, товарищ капитан! – раздался голос за спиной Климовича, и свет чужого фонаря лег ему под ноги.
Климович обернулся. Догнавший его человек был Даваджаб – командир монгольского бронедивизиона.
– Что так поздно? – спросил Климович.
– Не знаю. – Даваджаб пожал плечами. – Только что пришел из штаба к себе в юрту – и опять вызвали в штаб. А вы откуда и куда?
– Домой, с почты.
– Ну как, получили письма или еще пишут? – спросил Даваджаб, как всегда чуть-чуть щеголяя превосходным знанием русского языка и светя под ноги Климовичу своим фонариком.
– Долго письма идут, – вместо ответа сказал Климович. – Из Москвы – на двенадцатый, а из Бобруйска – на двадцать второй.
– Далеко. Скучаете немножко, да?
– Некогда. Сарычев скучать не дает. Сами видели! – Климович имел в виду трехдневные совместные с монголами учения, которые проводил командир бригады Сарычев.
– Товарищ Сарычев очень тяжелый человек, – с восхищением, не соответствовавшим его словам, сказал Даваджаб. – Очень тяжелый человек.
– Вот именно. – Климович вздохнул и вспомнил, как Сарычев вывел сегодня на стрельбах «удовлетворительно» всей отлично стрелявшей роте Климовича за персонально плохую стрельбу командира третьего взвода лейтенанта Овчинникова.
– Значит, не скучаете? – вернулся Даваджаб к тому, с чего начал разговор.
Они уже подошли к домику, где жил Климович.
– Деревьев мало у вас, – неожиданно сказал Климович. – Хоть бы вы их сажать начали, что ли. Ни тебе леса, ни тебе сада, просто тоска берет! – И, спохватись, что, кажется, сказал грубовато, добавил: – Я белорус, лесной человек, поэтому и тоскую. А вообще-то, конечно, природа у каждого своя, какая кому нравится.
Даваджаб рассмеялся. Его насмешило непривычное сочетание слов: «лесной человек».
– А я степной человек, – сказал он, – люблю, чтобы всегда было небо над головой.
– То-то я заметил, вы верхние люки в бронемашинах закрывать не любите.
– В бою закроем, а пока, на учениях, можно воздухом дышать.
– Между прочим, напрасно, – сказал Климович. – Я, например, почти не хожу с открытым люком – тренирую себя с закрытым, и на плохую видимость, и на духоту – на пары бензина, на пороховые газы. Бой – не стрельбы, весь боекомплект придется расходовать! Ну что ж, до завтра!
Сидя на высоком детском стульчике у накрытого клеенкой обеденного стола, дочь Климовича Майя (ее назвали так по настоянию отца, и потому, что она родилась в мае прошлого года, и потому, что он еще с детского дома любил это родившееся после революции имя) с помощью матери ела жидкую молочную кашку, время от времени выдувая ее обратно большими белыми пузырями.
Климович снял фуражку с наголо бритой головы и улыбнулся. У него была неожиданная для тех, кто его не знал, добрая, широкая улыбка, для которой, казалось, физически нет места на его загорелом, жестком, будто кованном из красной меди лице.
Он расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, опустился на стул, и его жена Люба сразу поняла по выражению лица, что он сегодня устал, чем-то расстроен, чем-то взволнован и хочет поговорить с ней.
Когда уже не первый год живешь с таким неговорливым человеком, то невольно так хорошо изучишь его молчаливое лицо, что читаешь на нем гораздо больше, чем все остальные люди.
Приподняв дочь под мышки, Люба вытерла с се губ остатки каши и сказала:
– Ну, пойдем спать. Спокойной ночи, папа!
Держа дочь на руках, она на минуту присела рядом с мужем, и Майя неуклюже ткнулась горячими губами в холодную, твердую, дышавшую степной прохладой щеку отца.