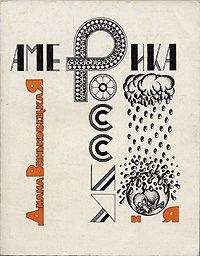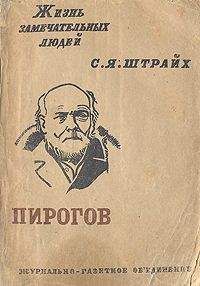Эфраим Баух - Ядро иудейства
Поезд, казалось, бессильно буксовал в жажде отбросить назад по ходу пространство, которое упорно проворачивалось на вертикальной оси этого дня, подобно огромному запущенному навечно волчку в абсолютно запущенном неухоженном мире.
Пассажиры, сидящие подо мной, молчаливо и угрожающе шелестели газетами, начиненными взрывчаткой такой силы, что она в любой миг могла взорваться ссорой, а то и дракой, необъяснимой дружбой и неоправданной враждой. Открытым текстом во всех газетах печаталось постановление "О преодолении культа личности и его последствий". В эпоху поголовной грамотности каждый на виду у всех проглатывал этот пылающий, обдающий смрадом факел, становясь факиром на час.
Можно было, конечно, принимать все, как есть, можно было лицемерить, колеблясь вместе с линией партии, вдрызг проигравшей партию в игре на человеческую жизнь, вместе со всем этим поездом, со скрипом идущим в завтра, но если уж отрицать – надо было всё до последнего пункта. В этом отрицании все четко связывалось, выстраивалось, и получалось, что как ни верти перед собой факты, как ни выкручивайся, – налицо была невероятная историческая Катастрофа, под стать по размаху этому бескрайнему гибельному пространству. Унесла она десятки миллионов безвинных душ. И если Дьявол задумал сократить народонаселение мира, то весьма удачно выпестовал двух своих учеников с усиками. Только у одного был лихой разбойничий чубчик, а у другого – благородный зачес ото лба к затылку.
Надо же было, чтобы событие захватило в пути, когда пространство твоего проживания трясет, швыряет со стороны в сторону с металлическим скрежетом и звоном то ли сцеплений, то ли цепей. Трясло, как в эпилептическом припадке, весь этот слепой и глухой простор, и через всю – в одиннадцать тысяч километров – евразийскую махину шли трещины.
Дьявол по народному поверью является строителем мостов. По ним, чёртовым, поезд летел через Волгу, Оку, Каму в надвигающуюся по всему окоему Сибирь, втягивающую в свою гибель и забвение.
Событие заставало всех и каждого по-разному: в страхе, в запоздалой радости, в оглядке, в неверии. Успокаивал лишь вливающийся в окна солнечный свет, приклонивший голову на лесных полянах. Но время от времени мелькали пыльные городки с непременным архитектурным набором – заброшенной церковью без креста и еще не сброшенными с каменных пьедесталов каменными истуканами развенчанного вождя. От его, знакомой до тошноты, посконной фигуры в суконной шинели, и такой окутывающей их мистически тяжкой тоски можно было лишь спастись, залив горло спиртом, пустить кровь в драке и поножовщине, чтобы не подавиться бесконечно наплывающим и не пережевываемым пространством. А оно крепко держало в своих тисках поезд, который рвался вдаль, надеясь выскочить из этих тисков, свистя с петушиной лихостью, но скука в этих краях без края была обложной и бесконечной.
Встречные рвал воздух с треском и сиреной, которая глохла, задушенная скоростью и пространством. Тысячекилометровая растянутость пространства все более ослабляла душевные связи. Я нырял в сон, проглатывающий за ночь сотни километров, "засыпал" пространство, спал, как птица на ветке, держась пальцами за край полки.
Кувшинное рыло власти.
Просыпаюсь от взрыва пьяных голосов, ревущих песню "Бежал бродяга с Сахалина". Странные какие-то алкаши. Если они после отсидки, то не в ту сторону едут, правда, блатные песни поют.
А за окном все те же леса да леса. Изредка, вдалеке – знакомые силуэты вышек – колокольни острожного мира. Из осторожных негромких разговоров подо мной понимаю, что освобожденные из лагерей зеки едут на запад. И каждого выпускают отдельно и в другое время. Их можно узнать по пепельным изможденным лицам, вздрагивающим от каждого крика, принимаемого ими за окрик.
Заглядываю к проводнице Марусе. Трясется мелкой дрожью: "Вот горе. Надо же, в мой вагон да по мою душу – пьянчуги: начальнички лагерные да шестерки их, помощнички сучьи". – Откуда они. – С какого совещания. – Так может, с горя пьют? Из-за постановления. О культе.
Маруся смотрит на меня расширенными от испуга глазами, вдруг начинает судорожно смеяться: "Ты что, совсем чокнулся? Ну и пассажиры, скажу я вам. Ну и рейсик, одни чокнутые да контуженные".
Под пьяные хоры опять взбираюсь на хоры – осточертевшую мою полку. Лежу на животе, уныло уставившись в эти глухие и пустынные, как кладбища, пространства, которым единственно по плечу – скрывать чудовищные по размаху преступления. И кажется, каждое дерево – надгробье, а длящаяся вдоль полотна бесконечная лесная опушка – край уходящих в даль и тьму омутов легендарно жуткого Государственного управления лагерей, позднее названного Солженицыным "Архипелагом ГУЛАГ".
Памятник всем жертвам ГУЛАГа.
Алкаши в песнях уже добираются до Байкала, священного моря. Вспоминаю описанный Герценом в "Былом и думах" памятник Торвальдсена в дикой скале у Люцерна. Умирающий лев с обломком стрелы, торчащей из раны, – во впадине, задвинутой горами и лесом. Прохожие, проезжающие и не догадываются, что вот, совсем рядом умирает лев. Но разница весьма существенна. Прохожие и проезжие здесь не просто догадываются, а знают о гибнущем рядом многомиллионном льве, но делают вид, что не знают, в душе радуясь, что все это надежно скрыто от глаза горами и тайгой.
Иногда кто-либо из "хористов", хватаясь за стенки вагона с профессиональной ловкостью вертухаев несет себя в туалет. Истинную сущность его лица могло бы раскрыть сферическое зеркало, подобное новогодним шарам, превращающее его в кувшинное рыло власти, за которым – темное существование, растление, запой и забой человеческих жизней. Уши прихлебателей-шестерок, вихляющих между начальством, движутся от бесконечного жевания, как на шарнирах. Эта шушера бегает на остановках, чего– то выносит, приносит. Кто они, стражники, волокущая снедь ВОХРа, военизированная охрана, стукачье, человеческое отребье, несущее вареную требуху начальству на закуску? Смесь похотливости и страха выделяет их личины, все время как бы выскальзывающие из-за начальнической спины или лапы. А начальники что? Вседозволенность в сочетании с бескрайней глухоманью, сжимающей горло немотой, вытачивает эти хари, их сиплое рявканье вместо нормального человеческого разговора, когда редкие слова тонут в матерщине, гоготе, чавканье и гавканье.
И "Постановление…" кажется потайным, пусть и подпорченным, зеркалом, с которого сорвали покрывало, – и вся эта свора ощутила себя на виду у всех – с клыками, хвостами, неисчерпаемым запасом свирепости.
И великая природа, которую они забили бетоном, колючей проволокой, карцерами, голодом и издевательствами, внезапно и во всей мощи обнаружилась вокруг и поверх – в размах земли и неба, которых в этих краях с лихвой, как и горя. Она текла за окнами вогнутой чашей, щетинящимся бесконечной тайгой сферическим пространством, возникая с востока, искривляясь и пропадая на западе, пространством, повязанным в одно лесами, реками, холмами и долинами, и абсолютно не связанным с этой оравой хищников, отторгаемой от его интимного бытия. Или само оно породило эту свору и тем унизило себя под стать веку.
Вывихнутые суставы времени.
Искривленность этого огромного пространства (общая теория относительности Эйнштейна духом Божьим витала над этой бескрайностью) выражала саму сущность обтекающего нас времени, искривленного человеческой жестокостью и массовым психозом адских экзекуций. Времени этому вывихнули суставы, добиваясь признания их экзекуторского права настоять на своем. По сути же, палачи вывихнули суставы себе. И было далеко неясно, пройдет ли безболезненно первое пробуждение после адского наркоза нашатырным спиртом "постановления".
А поезд, не уставая и трубя, врезался во тьму, и летели ему навстречу природа, обложная ложь, прикидывающаяся историей, реальная мертвая глушь. Радио не переставало трубить об Ангарской ГЭС, об Иркутском искусственном море, и чудилось, апокалиптический рог трубит о новом потопе, и воды зальют новую Атлантиду.
А вдоль вагона с непоколебимо-холодной твердостью, сталинскими усами в форменной фуражке двигался контролер. Даже свора присмирела перед этим представителем власти, неумирающей частичкой Усача, чью мертвую личину я видел всего лишь несколько дней назад в Мавзолее, самодержавного в течение стольких лет продавца билетов в одну сторону – на тот свет.
За окном, среди лесной глуши, мелькали волчьи глаза редкого освещения, падающего на кощунственный памятник над могилой миллионов жертв. Вождь не только уничтожал их физически, но лишал их последней человеческой памяти, после их гибели ставя на их могилу собственный памятник. Застолблена была им не память великой эры, а сокрыта многомиллионная братская могила. Стоило его скинуть, как тяжкое облако вырвалось на свободу, растеклось над землей, отравляя все живое. Миллионы безвинных полузабытых душ и лиц (ведь оставшиеся на свободе родственники со страху уничтожали фотографии репрессированных) слабели в памяти живых и близких виноватой улыбкой, беззащитной слезой, полуоборотом, последним объятием. Они мучили близких своим отсутствующим присутствием.