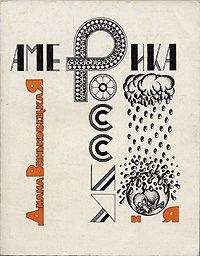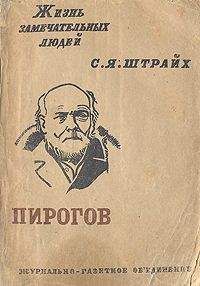Эфраим Баух - Ядро иудейства
За Тюменью говорили о лесоповале. Приближаясь к Томску – о голодной зиме и диких морозах. Дает себя знать собачий сибирский холод, не способствующий работе мозга. Он лишь способен заморозить разум.
Проплывшие вдали красные каменные столбы Красноярска не могут дикой своей красотой заглушить ощущение тревоги. Угольно-черное Черемхово тоскливо давит своими терриконами, напоминающими египетские пирамиды, только сожженные дочерна.
С приближением к Байкалу становится сквозней и синей. Орава не опохмелившихся алкашей-экзекуторов схлынула где-то ночью, да и сгинула в бескрайних этих омутах. Справа бесконечным покоем, голубой студеной синью начинается Байкал. Свежесть и мягкость воздуха, кажется, несет поезд на подушках, вносит мягкость в человеческие лица. Вносят на станциях свежего омуля. Москвичи достают припрятанную водку, чистую, как слеза. Звонкое эхо, по-мальчишески свесив ноги с крыш вагонов, начинает передразнивать пыхтящий поезд. А он не сердится и с удовольствием ввязывается в эту игру с пространством, как бы пытаясь доказать пассажирам, что вот же, не зря он был неутомим в своих усилиях, все же вырвался из чертовой обложной глуши, и оба – эхо и поезд – начинают играть в догонялки да прятки. Эхо резвее, прыгает по горам, легким мячиком отлетает от крыш вагонов в миг, когда поезд ныряет в очередной тоннель, и в дразнящем нетерпении ожидает его при выходе из тоннеля.
Дни пойдут чередой в походах в горы и ущелья, в собирании образцов, в отбивании ладоней геологическим молотком. И каждый раз, возвращаясь на базу, замираешь над озером. Удивительный по яркости красок и холоду пламени неверный свет заката разлит над сопками, долинами, байкальскими водами. Скорее даже не свет, а неслышный вечерний звон. Это чудится звуками лютни, льющейся с высот. И в этом призрачном, захватывающем дух водопаде печально и отрешенно стоят горы, деревья, домики, лодки, зачарованно прикованные взглядом к медленному малиновому закату.
Шарм-а-Шейх.Я вернусь в Москву. Тысяча девятьсот пятьдесят шестой год еще выкинет свои штучки. Давно и начисто лишенные бдительности, москвичи будут дневать и ночевать в очередях. И это даст возможность поддержки нового шута, возникшего на арене с его непристойной для русского уха фамилией – Насер, закрывшего Суэцкий канал.
И год в ноябре вместе с путанным венгерским восстанием с ходу влетит в Синайскую кампанию. Было ясно, тектоническая трещина проходит по линии Будапешт – Синай. Набитая серой взрывоопасной скукой, советская пресса втянет в свою трясину Имре Надя вкупе с Матиасом Ракоши и Яношем Кадаром. В газете "Правда" появится воззвание, клеймящее агрессию Израиля, подписанное тридцатью двумя моими соплеменниками, включая дряхлого циничного волка Заславского и писателя Натана Рыбака, взахлеб воспевшего легендарного погромщика Богдана Хмельницкого, который занялся всерьез решением еврейского вопроса.
И на краю тектонической трещины забалансируют новые имена – Бен-Гурион, Ги Молле и Энтони Иден. Но все это будет далеко, и в память врежутся лишь имена двух синайских мест – Абу-Агейла и Шарм-а-Шейх.
Тогда я и представить не мог, что через двадцать пять лет, в 1981, призванный в Армию обороны Израиля, как резервист, я окажусь в этом самом Шарм-а-Шейхе, и вспомню дни Шестидневной войны, пережитые в бывшем недружелюбном отечестве, и песню, транслировавшуюся по "Голосу Израиля: "О, Шарм-а-Шейх, мы снова вернулись к тебе".
Теперь же остаются считанные месяцы до того, как начнут эти земли отдавать Египту.
Заезжаем в Ди-Захав, место стоянки колен Израиля, ведомых Моисеем. Полно купающихся, палаток, автомашин, детишек, взъерошенных финиковых пальм. Среди рычащих автомашин – первобытный рев тоскующего по дальним странствиям верблюда, покрытого домотканым цветным ковром. Мальчик бедуин катает на нем детишек, а то и взрослых за плату. Верблюд печальным взглядом смотрит вдаль, словно еще видит пыль за уходящим в тысячелетия караваном собратьев, вместе с седоками, ношей и погонщиками, погружающимися вглубь легенды, которая стелется скудным путем в лучезарно ослепительную за горами землю Обетованную. А его бросили на растерзание времени, оставили здесь, и вот до чего докатился.
Купаемся.
Ныряем к неглубоким коралловым рифам: задерживаем дыхание, как задерживают его перед чудом.
Весь Синай это – чудо.
В неверном свете солнца, клонящегося к закату, за странниками тянутся их узкие удлиняющиеся тени, встают угловатые пики гор, лунный пейзаж.
Миражи Синая – с ними труднее расстаться, чем с реальностью. Они вечны, как самый корень человеческой души, жаждущей свободы и приобщения к небу.