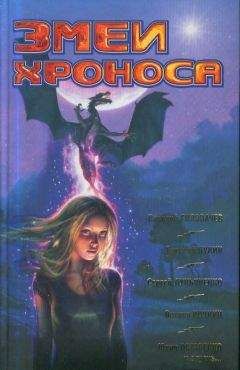Фридрих Ницше - Шопенгауэр как воспитатель
Человек Гёте не представляет столь грозной опасности, и есть даже в известном смысле корректив и квиетив именно к тем опасным возбуждениям, которым подвержен человек Руссо. Гёте сам в юности всем своим любвеобильным сердцем был привязан к евангелию доброй природы; его Фауст был высшей и смелейшей копией человека Руссо, по крайней мере поскольку нужно было изобразить последнего в его голоде по жизни, в его недовольстве и тоске, в его общении с демонами сердца. И теперь посмотрите, что рождается из всего этого скопления туч – наверно, уже не молния! Здесь именно и сказывается новый образ человека – человека Гёте. Можно было бы подумать, что Фауст проходит через эту всюду стесненную жизнь, как ненасытный бунтарь и освободитель, как сила, отрицающая из благости, как подлинный религиозный и демонический гений переворота, – в противоположность к его совсем не демоническому спутнику (хотя он и не может избавиться от этого спутника и должен одновременно и пользоваться скептической злобностью и отрицанием последнего, и презирать их – как это есть трагическая судьба всякого бунтаря и освободителя). Но подобное ожидание не оправдывается; человек Гёте покидает здесь человека Руссо; ибо он ненавидит все насильственное, всякий скачок – а это значит: всякое действие; и таким образом освободитель мира, Фауст, становится как бы только путешественником вокруг света. Все царства жизни и природы, все прошедшие эпохи, искусства, мифологии, все науки видят, как мимо них проносится ненасытный созерцатель; глубочайшие влечения возбуждаются и умиротворяются, даже Елена не может более удержать Фауста – и вот должно наступить мгновение, которого поджидает его глумливый спутник. В любом месте земли полет кончается, крылья отпадают, и Мефистофель уже тут как тут. Когда немец перестает быть Фаустом, для него нет большей опасности, чем стать филистером и попасть в руки дьявола – одни лишь небесные силы могут его спасти от этого. Человек Гёте, как я сказал, есть созерцательный человек высокого стиля, который лишь потому не погибает на земле от голода, что собирает для своего пропитания все великое и достопримечательное, что когда-либо было и еще есть на свете, хотя жизнь есть здесь лишь переход от одного вожделения к другому; он не деятельный человек; напротив, если он где-либо примкнет к определенной организации деятельных существ, то можно быть уверенным, что из этого не выйдет ничего путного – как, например, из всего усердия, которое сам Гёте обнаруживал к театральному делу – и прежде всего, что не будет опрокинут никакой «порядок». Человек Гёте есть консервативная и мирная сила, однако в нем таится опасность, как я уже сказал, выродиться в филистера, подобно тому, как человек Руссо легко может стать демагогом-заговорщиком. Если бы человек Гёте обладал немного большею мускульной силой и первобытной дикостью, все его добродетели были бы крупнее. Кажется, Гёте сам сознавал, в чем опасность и слабость его человека; он наметил ее в словах, обращенных Ярно к Вильгельму Мейстеру: «Вы недовольны и раздражены – это мило и хорошо; разозлитесь как-нибудь порядком – и это будет еще лучше».
Итак, говоря совершенно открыто: чтобы стало лучше, необходимо, чтобы мы когда-нибудь сделались порядком злыми. И в этом нам должен помочь образ шопенгауэровского человека. Шопенгауэровский человек берет на себя добровольное страдание правдивости, и это страдание помогает ему убить личную волю и подготовить тот совершенный переворот в его существе, достижение которого и образует собственно смысл жизни. Это высказывание правды кажется другим людям порождением злобы, ибо в сохранении своей половинчатости и искусственности они видят долг человечности и полагают, что нужно быть злым, чтобы так разрушать их игрушки. Они склонны крикнуть такому человеку то, что Фауст говорит Мефистофелю: «вечно действенной, целебно-творческой силе ты противопоставляешь холодный кулак дьявола»; и тот, кто хотел бы жить по-шопенгауэровски, походил бы, вероятно, более на Мефистофеля, чем на Фауста, – именно для современных близоруких глаз, которые в отрицании всегда видят отпечаток зла. Но существует род отрицания и разрушения, который есть именно истечение могущественной жажды освящения и спасения жизни. И первым его философским наставником среди нас, утерявших святость и подлинно обмирщенных людей, выступил Шопенгауэр. Всякое бытие, которое можно отрицать, тем самым и заслуживает отрицания; и быть правдивым значит верить лишь в то бытие, которого нельзя отрицать и которое само истинно и правдиво. Поэтому правдивый человек сознает, что его деятельность имеет метафизическое, объяснимое из законов иной и высшей жизни и в глубочайшем смысле утверждающее значение; хотя все, что он делает, кажется разрушением и ломкой законов этой жизни. При этом его деятельность должна стать длительным страданием; но он знает то, что знает и Мейстер Экхарт: «быстрейшее животное, которое довезет вас до совершенства, есть страдание». Мне кажется, что у каждого, кто представит себе подобное направление жизни, должно расшириться сердце и зародиться горячее желание стать таким шопенгауэровским человеком, т. е. в отношении себя и своего личного блага быть чистым и изумительно равнодушным, в своем познавании быть исполненным могучего пожирающего пламени и бесконечно удаленным от холодной и презренной нейтральности так называемых людей науки, высоко поднимаясь над ворчливо раздраженными мыслями, принося всегда себя первого в жертву познанной правде и глубоко сознавая те страдания, которые должны возникнуть из его правдивости. Правда, он уничтожает свое земное счастье своею храбростью, он должен быть враждебен даже людям, которых любит, и учреждениям, из лона которых он произошел, он не должен щадить ни людей, ни вещей, хотя сам страдает от наносимых им ударов, он останется непонятым и долго будет считаться союзником сил, которые ненавидит; благодаря ограниченности всякого человеческого понимания, он будет вынужден быть несправедливым, при всем своем стремлении к справедливости; но он может утешить себя словами, которые однажды употребляет Шопенгауэр, его великий воспитатель: «Счастливая жизнь невозможна; высшее, чего может достигнуть человек, есть героический жизненный путь. Таким путем идет тот, кто в какой-либо области и в каком-либо деле борется с чрезмерными трудностями за какое-либо общее благо и в заключение побеждает, но при этом плохо или совсем не вознаграждается. Тогда в конце пути он останавливается окаменелый, подобно принцу в Re corvo Гоцци, но в благородной позе и с великодушным жестом. Память о нем сохраняется и чествуется, как память героя; его воля, умерщвляемая в течение целой жизни трудом и усилиями, плохим успехом и неблагодарностью мира, угасает в нирване». Правда, такой героический жизненный путь, как и связанное с ним умерщвление воли менее всего соответствуют жалкому понятию тех, кто больше всего говорят об этом, празднуют торжества в память великих людей и полагают, что великий человек просто велик на тот же лад, как они сами – малы, т. е. как бы в виде подарка и для своего удовольствия, или же чисто механически и в слепом подчинении внутреннему принуждению; так что тот, кто не получит подарка и не чувствует принуждения, имеет такое же право быть малым, как великий человек – быть великим. Но быть одаренным или принужденным – это презренные слова, с помощью которых люди хотят уйти от внутреннего голоса, и хула на того, кто вслушался в этот голос, т. е. на великого человека; именно он меньше всех позволяет одаривать или принуждать себя. Не хуже всякого маленького человека знает он, как можно взять жизнь с легкой стороны и как мягка постель, в которой он мог бы растянуться, если бы стал обходиться с собой и с своими ближними прилично и на обычный лад; ведь все людские порядки устроены так, чтобы постоянно рассеивать мысли и не ощущать жизни. Почему же он так сильно хочет противоположного, т. е. непременно ощущать жизнь, – а это значит – страдать от жизни? Потому, что он замечает, что его хотят обмануть относительно его самого, и что существует некоторого рода заговор, чтобы выкрасть его из его собственной пещеры. И вот он противится, навостряет уши и решает: «я хочу принадлежать самому себе!» Лишь постепенно он начинает понимать, как страшно это решение. Ибо отныне он должен спуститься в глубины бытия, с рядом необычайных вопросов на устах: зачем я живу? Какой урок могу я взять от жизни? Как я стал тем, что я есть, и почему же я страдаю от этой моей природы? Он мучится и видит, что никто так не мучится, что, наоборот, руки его ближних страстно протянуты к фантастическим событиям, разыгрывающимся на политической сцене, или что они сами разгуливают в сотне масок, переодетые юношами, мужами, старцами, отцами, гражданами, священниками, чиновниками, купцами, суетливо озабоченные своею общею комедией и нисколько не думая о себе самих. Все они на вопрос: зачем ты живешь? – быстро и гордо ответили бы: «чтобы стать хорошим гражданином, или ученым, или государственным деятелем», – и все же они суть что-то, что никогда не может стать иным, и почему они суть именно это? Увы! – это, а не что-либо лучшее? Кто понимает свою жизнь лишь как точку в развитии поколения или государства или науки и, следовательно, хочет целиком принадлежать к процессу становления, к истории, тот не понял урока, заданного ему бытием, и должен выучить его снова. Это вечное становление есть лживая кукольная комедия, из-за которой человек забывает себя самого, развлечение, которое рассеивает личность во все стороны, нескончаемая игра тупоумия, которою большое дитя – время – забавляется перед нами и с нами. Героизм же правдивости состоит в том, чтобы в один прекрасный день перестать быть его игрушкой. В становлении все пусто, обманчиво, плоско и достойно нашего презрения; загадку, которую человек должен разрешить, он может разрешить лишь в бытии, в бытии таким, а не иным, – лишь в непреходящем. Теперь он начинает испытывать, как глубоко он сросся со становлением, с одной стороны, и с бытием – с другой; чудовищная задача восстает перед его душой: разрушить все становящееся, осветить все ложное в вещах. Он тоже хочет все познать, но он хочет это иначе, чем гётевский человек, не ради благородной изнеженности, чтобы сохранить себя и усладить многообразием вещей; напротив, себя самого он первого приносит в жертву. Героический человек презирает свое благополучие и злополучие, свои добродетели и пороки и вообще измерение вещей меркой своей личности, он ничего не ждет больше от самого себя и хочет во всех вещах увидеть эту безнадежную их основу. Его сила лежит в самозабвении; и если он вспоминает себя, то он смотрит на себя с высоты своей великой цели, и ему кажется, что под собой и позади себя он видит неприметную горку шлака. «Старые мыслители всеми силами искали счастья и правды – а никогда человек не найдет того, чего он ищет», – гласит злое правило природы. Но кто ищет во всем неправды и добровольно приобщает себя несчастью, тому, быть может, уготовлено иное чудо разочарования: нечто невыразимое, по сравнению с чем счастье и истина суть лишь ночные чудища, приближается к нему, земля теряет свою тяжесть, земные события и силы становятся сонными грезами, и все вокруг озаряется тихим светом, как в летний вечер. Созерцателю чудится, что он только что просыпается и что вокруг него еще лишь реют облака исчезающего сна. Этим облакам тоже суждено когда-либо рассеяться; и тогда настанет день.