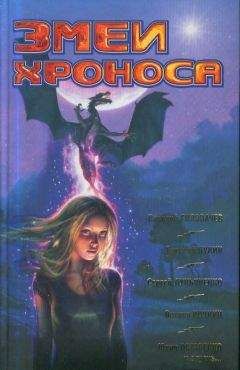Фридрих Ницше - Шопенгауэр как воспитатель
Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака разрываются и мы видим, как, вместе со всей природой, нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что стоит высоко над нами. Содрогаясь, мы оглядываемся вокруг себя в этом внезапном свете и смотрим назад: мы видим, как бегут утонченные хищные звери и мы сами среди них. Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочная беготня, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе – все это есть продолжение животного состояния; как будто человеку суждено сознательно регрессировать и обмануться в надежде на свои метафизические задатки – более того, как будто природа, так долго ждавшая человека и работавшая над ним, отшатывается теперь от него и готова вновь вернуться к бессознательности инстинкта. Ах, ей нужно познание, и она страшится того познания, в котором нуждается; и вот пламя, беспокойно и как бы пугаясь самого себя, колеблется во все стороны и охватывает тысячи вещей, прежде чем охватить то, ради чего вообще природа нуждается в познании. Мы все знаем в отдельные мгновения, что широчайшие планы нашей жизни создаются лишь для того, чтобы убежать от нашей истинной задачи, что мы охотно хотели бы куда-нибудь спрятать свою голову, где бы наша стоглазая совесть не могла нас поймать, что мы спешно дарим свое сердце государству, добыванию денег, общению с друзьями или науке, только чтобы не владеть им более, что мы даже отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что, нам кажется, нужнее всего не приходить в сознание. Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого; и все робко скрывают эту спешку, ибо хотят казаться довольными и не показать своей нищеты более зорким наблюдателям; все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем придать ей что-то шумно-праздничное. Всякому известно то странное состояние, когда нас внезапно одолевают неприятные воспоминания и мы стараемся порывистыми жестами и звуками изгнать их из сознания; но по жестам и звукам обычной нашей жизни можно угадать, что мы все и постоянно находимся в подобном состоянии – в состоянии страха перед воспоминанием и самоуглублением. Что же так часто задевает нас, какая муха не дает нам спать? Вокруг нас бродят привидения, каждое мгновение жизни хочет нам что-то сказать, но мы не хотим слушать эти таинственные голоса. Мы боимся, когда мы одни и в тишине, что нам прошепчут что-то на ухо, и потому мы ненавидим тишину и оглушаем себя общением с людьми.
Повторяю, все это мы изредка понимаем и дивимся тогда всей нашей головокружительной спешке и боязни и всему состоянию нашей жизни, похожему на сон, когда мы боимся проснуться и грезим тем живее и беспокойнее, чем ближе мы к пробуждению. Но вместе с тем мы чувствуем, что мы слишком слабы, чтобы долго выносить такие мгновения глубочайшей сосредоточенности, и что мы – не те люди, к которым стремится вся природа как к своему спасению; достаточно уже, если нам вообще удается немного вынырнуть головой и заметить, в какой поток мы так глубоко погружены. Но даже вынырнуть и очнуться на мимолетное мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь – кто же именно?
Это те подлинные люди, которые уже не звери, – философы, художники и святые; при их появлении и в их появлении природа, которая никогда не делает скачков, делает свой единственный скачок, и притом скачок радости, ибо она чувствует себя впервые у цели, – т. е. там, где она понимает, что должна разучиться иметь цели и что она делала слишком высокие ставки в игре жизни и становления. Она преображается при этом познании, и кроткая вечерняя усталость – то, что люди зовут «красотой», – покоится на ее лике. То, что она высказывает теперь с этим преображенным выражением лица, есть великая разгадка бытия; и высшее желание, какое может иметь смертный, это – длительно и с открытыми ушами прислушиваться к этой разгадке. Если кто-либо подумает о том, что, например, должен был услышать в течение своей жизни Шопенгауэр, то он, вероятно, скажет затем самому себе: «О, мои глухие уши, моя мутная голова, мой колеблющийся разум, мое сдавленное сердце, все, что я зову своим, как я презираю это! Не уметь летать, а только трепыхать! Видеть над собой высоту и не уметь подняться на нее! Знать путь, который ведет к этому необозримому свободному горизонту философа, твердой ногой вступить на него и через несколько шагов отшатнуться обратно! И если бы хоть на один день было осуществимо это великое желание, – как охотно можно было бы отдать за него всю остальную жизнь! Подняться так высоко, как поднимается мыслитель, в чистую атмосферу Альп и снегов, туда, где нет уже туманов и завес и где основная сущность вещей выражается в резких и застывших формах, но с совершенной понятностью! При одной мысли об этом душа становится одинокой и бесконечной; но если бы ее желание исполнилось, если бы когда-либо взор пал на вещи прямо и светло, подобно лучу света, если бы замерли стыд, робость и вожделение, – каким словом назвать тогда ее состояние, этот новый и загадочный трепет без возбуждения, с которым она тогда, подобно душе Шопенгауэра, осталась бы лежать на великой, писанной образами книге бытия, на окаменевшем учении о становлении не как ночь, а как раскаленный красный свет, заливающий весь мир. И какая участь – почуять своеобразное назначение и блаженство философа, чтобы ощутить всю шаткость и все злосчастие нефилософов, безнадежно жаждущих! Знать, что ты – плод на дереве, который никогда не может созреть от недостатка света, и тут же рядом с собой видеть солнечный свет, в котором ты нуждаешься!»
Здесь достаточно муки, чтобы сделать такого неудачника завистливым и злобным, если бы он вообще мог стать завистливым и злобным; но вероятно он обратит наконец свою душу в другую сторону, чтобы она не пожирала самое себя в этом тщетном влечении, – и теперь он откроет новый круг обязанностей.
И тут я дошел до ответа на во-прос: возможно ли связать себя правильной самодеятельностью с великим идеалом шопенгауэровского человека? Прежде всего бесспорно следующее: эти новые обязанности не суть обязанности одинокого; напротив, обладая ими, принадлежишь к могущественному сообществу, которое соединено, правда, не внешними формами и законами, но зато единой основной мыслью. Это – основная мысль культуры, поскольку последняя ставит перед каждым из нас лишь одну задачу: содействовать созиданию философа, художника и святого в нас и вне нас и тем трудиться над совершенствованием природы. Ибо как природа нуждается в философе, так она нуждается и в художнике – для метафизической цели, именно для своего собственного самоуяснения, для того, чтобы иметь наконец чистый и законченный образ того, что ей никогда не удается отчетливо рассмотреть в беспокойном процессе своего становления, – т. е. для своего самопознания. Гёте в глубокомысленно-шутливых словах дал понять, что для природы все ее попытки имеют лишь смысл, поскольку она ждет художника, который встретил бы ее на полпути, угадал наконец ее лепет и высказал бы то, на что собственно направлены ее попытки. «Я часто говорил, – восклицает он однажды, – и еще часто буду повторять, что causa finalis всех мировых и человеческих дел есть драматическая поэзия. Ведь вся штука абсолютно не годится ни на что другое». И, наконец, природа нуждается в святом, в котором совершенно растворилось «я» и страдальческая жизнь которого уже не ощущается или почти не ощущается индивидуально, а сознается как глубочайшее чувство равенства, солидарности и единства со всем живущим – в том святом, в котором осуществляется чудесное превращение, недоступное игре становления, высшее и конечное вочеловечение, к которому стремится и влечется вся природа, как к спасению от самой себя. Нет сомнения, что мы все родственны ему и связаны с ним подобно тому, как мы родственны философу и художнику; бывают мгновения и как бы искры самого яркого и любвеобильного пламени, при свете которого мы уже не понимаем слова «я»; по ту сторону нашего существа лежит нечто, что в такие мгновения становится посю-сторонним, и потому мы из глубины души жаждем мостов между тем и этим берегом. Правда, в нашем обычном состоянии мы ничем не может содействовать созиданию спасительного человека; потому-то мы и ненавидим себя в этом состоянии, и эта ненависть есть корень того пессимизма, которому Шопенгауэр должен был снова обучать наше поколение, но который так же стар, как стремление к культуре. Она есть корень пессимизма, но не его цвет, его основание, а не его верхушка, начало его пути, а не его цель; ибо когда-нибудь мы должны еще научиться ненавидеть нечто иное и более всеобщее, чем нашу личность и ее жалкую ограниченность, ее изменчивость и ее беспокойство – в том более высоком состоянии, в котором мы будем любить также нечто иное, чем то, что мы можем любить теперь. Лишь когда, в нынешней или грядущей жизни, мы сами будем приняты в этот возвышенный орден философов, художников и святых, будет поставлена и новая цель нашей любви и ненависти; пока же у нас есть наша задача и наш круг обязанностей, наша ненависть и наша любовь. Ибо мы знаем, что такое культура. Она требует в отношении шопенгауэровского человека, чтобы мы постоянно подготовляли его созидание и содействовали ему, узнавая и устраняя с пути все враждебное культуре, – словом, чтобы мы неутомимо боролись против всего, что лишило нас высшего осуществления нашего бытия, помешав нам самим стать такими шопенгауэровскими людьми.