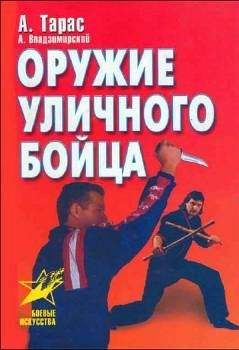Павел Басинский - Скрипач не нужен
Всё это любопытно, однако имеет к предмету нашего разговора косвенное отношение. Да и что странного в том, что бывший самоучка-литератор, воспитанный, как писал В.Ф.Ходасевич, «на медные деньги», в зените славы тянулся к хорошеньким женщинам и китайскому фарфору? Это даже слишком понятно, чтобы обсуждать всерьез. И нет никакой мистики в его позднем сходстве с Ницше (действительно поразительном!), ибо последнего в незнакомом обществе часто принимали за славянина, а Горький в повести «О тараканах» даже нашел, что Ницше был похож «на машиниста с водокачки на станции Кривая Музга».
Для поклонников Горького, а такие еще остались, вопрос о его эстетизме едва ли имеет цену. Горький – великий писатель и человек с довольно живописной судьбой, в которой хотя и черт ногу сломит, но которая, во всяком случае, интересна, как судьба Колумба, например. Время беспощадно лишь к безликости, даже полезной, даже «порядочной», «лучшее достижение нации есть лица, богатые дарованием и самобытностью» (Константин Леонтьев), а Горький и в жизни, и в литературе, вопреки всем маскам, сумел сохранить свое лицо.
Гениальны или нет его творения, но они вре́зались в культурную память человечества, как и его афоризмы, над которыми можно смеяться или ужасаться, но нельзя их выправить. Попытайтесь-ка отредактировать фразу «Человек – это звучит гордо!»
Есть вещи очевидные, но сами по себе не имеющие никакого значения. Например, для литературного эстета очевидно, что Горький не обладал легкокрылым пушкинским даром, которым с излишней, может быть, претензией гордился его младший современник Набоков. Что он был все-таки талантливой машиной для переделки жизненных и книжных впечатлений в продукт творчества и светлое понятие гения подменил тяжелым понятием труда. Возможно, отсюда его старческое брюзжание на молодых писателей в тридцатые годы: не хотят работать, как он, сукины дети!
И еще – очевидность. Как ни упрямо, ни честно трудилась «машина», но многие из продуктов труда все-таки остались сырыми. Иначе и быть не могло. Любой ремесленник знает, что из двух-трех десятков кувшинов только один пойдет по более высокой цене. Ну и что? Надо потеть, надо стараться, пробовать, менять состав глины и лака, температуру обжига. И тогда, может быть, получится шедевр…
Горький это знал (см. письма к М.М.Пришвину), не слишком высоко ценил свой талант, зато тренировал волю и дисциплину. Важная деталь: всю жизнь он писал плохие стихи, которые большей частью уничтожал. Не скрывая завидовал Бунину и Ходасевичу. Вероятно, мучился сильно, но не признался в этом, ибо презирал страдание. Умер, как вспоминали очевидцы, «застегнутый на все пуговицы».
Но за этими очевидностями следует и третья. Как-то непонятно этот высокий, суровый старик, устроивший смешную тяжбу с литературным Олимпом – прежде всего с Гоголем, Толстым и Достоевским, – тяжелой поступью прошагал в вечность, чтобы уже оттуда грозить богам палкой. Другие же, легконогие, легкокрылые, так и не прыгнули, не взлетели выше облаков. Горького невозможно вычеркнуть из русской литературы. Останется белое пятно, которое не заполнишь ничем.
Что же касается совершенства… Есть красота и красота. Можно любить только цветы, но можно и землю, на которой они выросли. Мережковский находил в творчестве Горького «сомнительную поэзию». «В произведениях Горького нет искусства; в них есть то, что едва ли менее ценно, чем самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни, кусок, вырванный из жизни с телом и кровью. И как во всем очень живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота, безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни обаятельная» («Чехов и Горький»).
Согласимся с этим, за вычетом того, что «куски жизни» в творчестве Горького часто не облагорожены, но именно испорчены его книжной культурой, а также его смутной «философией». Почва прекрасна и сама по себе, но лишь до тех пор, пока над ее «улучшением» не потрудился неловкий садовник. Впрочем, можно любить и такую почву, если она своя, родная. В иерархии русской художественной культуры Горький занимает определенное место; во всяком случае, он узнаваем с первых же строк.
Вообще, значение Горького-писателя более или менее ясно: это данность, которая, по крайней мере, заслуживает изучения. Но не об этом его «эстетизме» сейчас идет речь. Всё становится очень неясно, когда пытаешься понять внутренний двигатель горьковского творчества или, другими словами, тот вид духовного топлива, которым питалась его эстетическая «машина».
В самом деле, что заставило его написать двадцать пять томов художественной прозы и драматургии (письма и публицистика не в счет)? Простой ответ: самолюбие и жажда славы, которой он, собственно, и достиг, на какое-то время возвысившись даже над Толстым и Чеховым. Но такой простой вывод устроит только мелкого завистника. Фигура Горького слишком значительна, чтобы так просто от нее отделаться.
Вот главный вопрос: что мешало эстетически развитым людям читать Горького, а тем более наслаждаться им? В его творчестве, безусловно, есть что-то «мучительное», как и в прозе его врага Достоевского. Оно «неэротично в высоком смысле слова, – писал эмигрант Георгий Адамович. – Какая-то неисцелимая сухость сковывает его» («Максим Горький»). Легко заметить, что это верно не только в высоком, но и в низком смысле: сексуальные сцены, вроде соития Нехаевой и Самгина, часто выходили у него грязными, словно он их где-то подсмотрел.
Но если в мире Достоевского эстетическая сухость исцеляется метафизической глубиной мысли и теми жуткими психологическими загадками, в атмосфере которых его герои чувствуют себя как рыба в воде, если зрелое его творчество явственно пронизано светом православия, озаряющим самые темные закоулки души его странных персонажей, то атеист Максим Горький был лишен и этого спасения. «Бога нет, Леонидушка…» – пишет он Леониду Андрееву будто о каком-то скучном, а впрочем, и несостоявшемся визите. «Человек – всё. Он создал даже Бога». Главная мысль Горького.
Вот парадокс (и глубокое отличие от Достоевского): Горький сам по себе интересен, а мысли его – нет. Они «элементарны, топорны, как бревна… этакие дубовые, тысячепудовые тумбы», – язвил молодой Корней Чуковский («Две души М.Горького»). Льва Толстого они просто раздражали, как ни осаживал он себя, как ни уговаривал быть терпимее. И вовсе не проповедник в нем восстал, но аристократ и русский барин, с брезгливостью наблюдавший, как публика пожирает очередную модную глупость и не морщится. «Горький – недоразумение» (запись в дневнике). Чехов в своей манере лукаво посмеивался. В поэме Горького «Человек» он увидел «проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на о…» Даже младший его современник Михаил Пришвин был немало смущен, получив от старого уже Горького письмо с пассажем: «Да поздравит себя Вселенная, что существует такое и столь великое украшение ее, каков есть человек». «На это письмо я не собрался ответить…» – уклончиво вспоминал он («Сборник статей и воспоминаний о М.Горьком»).
В.В.Розанов, написавший Горькому несколько прекрасных писем, в которых, между прочим, предсказал его судьбу как общественного деятеля («Боец умер вне боя»), получил в ответ всё те же общие рассуждения о Человеке, который почему-то должен «встать рядом с Богом» (зачем, если Его нет?), и в конце концов печально заметил в «Уединенном»: «Он до странности не понял ничего».
Вот и тайна Горького, о которой мудрый змий-Розанов высказался вскользь, чтобы никто не догадался! Этот человек до странности ничего не понимал в этой жизни. Его место – в четверке мировых лидеров по «странности»: ГОфман, ГОторн, ГОголь, ГОрький – словно вселенский гогот звучит!
Кого-то смущает беспросветная чушь, которую «пролетарский писатель» нес в тридцатые годы и в письмах, и в статьях. В них видят чуть ли не признак ослабленного в старости ума. Но почему бы заодно не поразиться сотням странностей в «Жизни Клима Самгина», вроде той, что гинеколог Макаров в своем доме прячет оружие для большевиков? Почему бы не подивиться, каким образом болотный Уж вполз «высоко в горы», чтобы встретить там степного Сокола? Перечитайте-ка «Городок Окуров», страннейшую вещь, в которой, как опара из квашни, лезет изо всех щелей грубо сколоченной «правды жизни» настоящий сюрреализм.
Или вот сюжет повести двадцатых годов. Грустный мещанин в забытом Богом уезде мечтает о Париже, голубом городе, где всё голубое: и небо, и дома, и люди, и собаки. А пока красит избу в синий цвет, чтобы отчасти материализовать мечту. Но приходит какой-то Столяр (с большой буквы), пьет водку и золотой краской малюет на фасаде не то рыбу, не то осьминога, словом, какое-то хтоническое чудовище, после чего бедный мещанин сходит с ума («Голубая жизнь»).