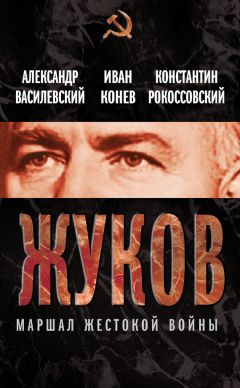Елизавета Каспарова - Путешествие вокруг Солнца на земном шаре
Группа продлённого дня
В школе дети спят.
Помню, какое странное чувство я испытала, когда впервые это обнаружила.
Зайдя в один из кабинетов, я увидела расставленные по всему классу раскладушки, застеленные белыми простынями.
Детство
Вспомнилось, что нам с Женей родители подарили игрушечные телефоны. Можно было провести шнур из комнаты в комнату и разговаривать. Телефоны были серые, пластмассовые и выглядели совсем как настоящие.
Детство
Когда тебя мама сажает в наполненную ванну, ты начинаешь ёрзать и создаешь волну, которая немного страшно на тебя накатывается. Это называлось «устроить море».
Хорошо еще было нырнуть с головой и слушать звон в ушах.
* * *Англичане должны внедрить в практику свою чайную церемонию, альтернативную японской. Весь церемониал хорошо изложен в сказке Кэрролла глава — «Mad tea party». Будет уже не гость, хозяин и слуга, как у японцев, а Шляпник, Мартовский Заяц, Соня и Алиса.
* * *«Cocteau Twins» — две прекрасные поющие девушки, плавающие в море. Море — это звездное небо. Время от времени они выпускают изо рта струйки золотистых искр.
Когда поют «Кокто Твинз», из динамиков должен дуть свежий ветер.
* * *Ценность инсайтов и прочих «полезных ископаемых», добытых из сна и других заповедников нашего сознания — относительна, как верно заметил Юганов.
Как в детстве, на море, наберешь, бывало камушков, — все они такие красивые, так блестят, переливаются. Но привезя их в Москву, несмотря на мамины протесты, вдруг видишь — что это груда обычных, тусклых камней, которых ничего уже не оживит. Ты пытаешься положить их под воду в раковине, но это не помогает. И редко когда попадется камушек, который хорош и здесь.
«…и воображают, будто можно насладиться в действительности красотой грёзы».
(Марсель Пруст, «В поисках утраченного времени».) * * *Открытие: грибы не сырые, а живые!
* * *Изменяется ли движение мысли в невесомости?
* * *Невидимые функции организма. Одна из них — дыхание. Его визуализируют мороз и дым. Что же надо сделать, какие условия создать, чтобы увидеть, к примеру, лучи зрения?
* * *Ветер над тающими снегами.
Детство
Раньше было принято выращивать зеленый лук на подоконниках. Головку репчатого лука устанавливали на вырезанную круглую картонку с дырочкой посередине, а корни опускали в баночку с водой. Помню, как я состригала зеленые перья лука ножницами.
* * *Я обнимаю свою маленькую племянницу Катю, прижимаю ее к себе: — Ты мой птенчик! Девочка поднимает голову и ласково шепчет: — А ты — моя птица!
* * *Родители ждали гостей, и мама попросила меня посчитать тарелки. Стою, считаю вслух — раз, два, три… и т. д. Катя, внимательно прослушав мой счет, с уважением сказала: «Хорошо считаешь!»
* * *Детство прячется в вещах, забытых на дне кувшинчика, стоящего на высоком шкафу в гостиной.
Детство
Автоматы с газированной водой. Мокрые медяки. Ритуал обмывания стакана.
Особый, кислый запах вокруг этих автоматов. Черные шланги. Лужи.
* * *В детском саду девочек фотографировали с бантом на голове и с телефонной трубкой в руках. Иногда слайд с фотографией вставляли в пластмассовый синий игрушечный телевизор. Картинку рассматривали через вмонтированную в «телевизор» лупу.
* * *Автоматы в кинотеатре — прозрачный куб с вделанным в верхнюю стенку страшным механическим подобием руки. Пол устлан бисером, на котором соблазнительно раскиданы пачки советской жвачки, зубные щетки, расчески, конфеты, заколки, машинки, солдатики, календарики. Как правило, хитрое устройство, подобно Толкиеновским драконам, хранило свои богатства, вытащить из него что-нибудь из этих чудесных даров не удавалось, по причине весьма прозаической — работники ослабляли захват механических пальцев. И, потеряв свои 15 копеек, мы, погрустневшие и раздосадованные, отправлялись смотреть кино.
* * *Кажется, Хармс писал: «Ожидание утяжеляет взгляд». Мне всегда интересно было смотреть в какую «маску» стягивается лицо человека, который, к примеру, бездумно сидит в очереди или долго едет в метро. У кого-то лицо приобретает хмуро — недовольное выражение, кто-то — сама печаль, а у комсорга нашего класса — оно замечательным образом складывалось в плакатную гримасу из серии «Пролетарии всех стран — объединяйтесь!»
* * *У меня существует особое чувство невыносимого, мучительного стыда, вызываемое КСП-ешными песнями, театральными капустниками, КВН и прочей самодеятельностью.
Особенно ужасен театр, которым меня, как впрочем и всех детей моего поколения, обязательно, с самого раннего возраста, пичкали, словно каким-то необходимым витамином, вроде рыбьего жира.
У меня остались теплые воспоминания о детских спектаклях, хотя, возможно, они таковы из-за того оттенка, которым отливает детство, когда взглядываешь на него из сегодняшней дали.
Но «взрослый», «серьёзный» театр приводил меня, перефразируя Набокова, в небольших дозах — к скуке, а в больших — к оголению всех нервов.
Сидя в партере и покорно страдая от сюжета, скроенного по пошлой балаганной выкройке, сидя в абсолютном одиночестве — все окружающие захвачены действием. Отсутствие контакта и какого-то либо сочувствия между тем, что происходит на сцене и мной, приводит меня к ощущению, что я зачем-то присутствую при выяснении отношений каких-то незнакомых, чужих мне людей, я невольно начинаю чувствовать себя в неприятной роли подслушивающего и подглядывающего человека…
Тогда, чтоб хоть как-то скоротать время, я начинаю рассматривать декорации, но это вряд ли может меня утешить — фанерные доски, обтянутые тканью, безнадежно претендующие на то, чтобы казаться садом или домом; искусно сделанные фальшивые окна, всегда напоминавшие мне «ложные», застроченные карманы, выглянешь, купившись, в такое окно, а там пыль, старые тряпки, душный воздух кулис; такие же двери, пародирующие друг друга, открываясь на всё ту же сцену…
Вдруг невольно вздрагиваю от громких возгласов — это после небольшого затишья актеры опять принялись «играть»— раздаются одна за одной реплики — крики, которые они издают своими поставленными по правилам этого искусства голосами, ненатурально разделяя и выделяя слова, одновременно складывая лицо в одну из тех неописуемо вульгарных гримас, которые призваны изображать «чувства»…
В детстве я, помнится, полагала, что чем громче орёт актер, тем, стало быть, он лучше играет. Как это не наивно, но сдается мне, что большинство театральных режиссеров руководствуются именно этим фактом.
Чувство невыносимой неловкости, мучавшее меня с детства в заведениях типа театра и цирка, чувство стыда за этот юмор и этот пафос, приводили меня к одному и тому же вопросу, который я задавала себе, потихоньку выбираясь в очередной раз недосмотренного (недовыдержанного) спектакля: «Как, как такое можно серьезно и с достоинством пропеть или сказать, и не сойти с ума потом от стыда и позора?!»
Примечательно, что я не находила понимания, высказывая вслух описанное выше мнение. Как правило, на меня, словно мессершмидты, начинали пикировать учителя, родственники, знакомые и даже некоторые друзья — приятели. Характерно, что обычно какой-либо аргументированной полемики не возникало, всё ограничивалось произнесением громогласных аксиом типа: «Это же культура! Это же искусство!»
Помню, что кто-то из возмущенных обвинил меня в «бездуховности», на что я, смеясь, заметила, что это одна из проворных советских идеологических подмен, когда прослушивание в Консерваториях симфоняка и «походы» в театр считались проявлением духовности.
Позже, в воспоминаниях Георгия Иванова, я вычитала афоризм, который мог бы послужить хорошим эпиграфом к этому тексту: «Русская интеллигенция справляла театральный ритуал с брезгливой поспешностью». Автором этого высказывания оказался один из моих любимых поэтов — Осип Мандельштам.
Часть 3
Студент
Мне было 16 лет, я болела; мама, уходя на работу, вызвала врача на дом. Пришел студент, который, по-видимому, был на практике в поликлинике. Он послушал меня, посмотрел мне миндалины, пощупал живот, а потом и говорит: «Какая же ты красивая!» И смотрит на меня. Возникло напряженное молчание. Мне стало не по себе, но тут, к счастью, пришла с работы мама, и студент сразу засобирался — мол «вызовов еще много». Хотя мама стала предлагать ему чай и пообедать, он отказался и поспешно ушел. Какой, говорит мама, скромный мальчик!