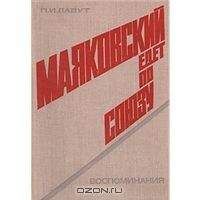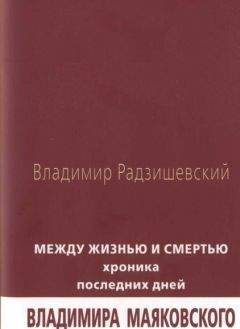Виктор Ардов - Этюды к портретам
У лектора был жидкий тенорок, говорил он на одной ноте, никак не меняя интонацию. И оттого, что ему часто приходилось повторять слово «Маяковский», он произносил фамилию поэта скороговоркой: «Мм'ковский»… А потом даже просто: «…ковский»…
Лектор бормотал:
— Если мы сравним те ранние произведения…ковского, которые характерны для предреволюционного периода, то мы увидим, что…ковский сумел найти в себе силы для того, чтобы…
Грешный человек: я стал дремать под это однообразное унылое журчание. Неизвестно, сколько времени я находился в забытьи, но проснулся я потому, что чей-то сильный и хорошо поставленный бас произнес, очевидно, из зрительного зала:
— Гражданин, вы о чем, собственно, разговариваете?
Как это бывает при внезапном нарушении традиционной
и хорошо налаженной церемонии, произошла короткая пауза. Затем в аудитории возник гул недоумения.
— Что вам угодно, товарищ? — проверещал тенорок лектора.
Бас повторил с интонацией неопределенной иронии:
— Я говорю: о чем вы тут бубните?
Опять шумок в зрительном зале и раздражительный, хотя и надменный, ответ лектора:
— Товарищ, я говорю о поэзии…ковского и прошу меня не перебивать!
— О поэзии? А я думал, вы силос жуете.
В зале дружно засмеялись.
Я выглянул на сцену из-за второй кулисы.
По проходу между рядами приближался к рампе человек очень высокого роста. Это был просто великан. Он шел вразвалку, необычайно большими шагами и слегка волоча ноги. На первый взгляд походка казалась неуклюжей, но сразу же делалось ясно: такая походка как бы объявляла вам, что человек не желает казаться изящным в том смысле, как оно понимается в театрах и гостиных. Неуклюжесть эта нарочитая.
У шедшего были огромные плечи. Большая четырехугольная голова вскинута кверху. Темные волосы по замыслу должны бы лежать зачесанными назад, но они очень непослушны и, как бы дыша, все время шевелятся надо лбом и бровями.
Когда человек подошел к первым рядам, свет выносных прожекторов осветил его лицо. Большие карие глаза, зрачки которых чуть уходили под верхние веки, близко над глазами суровые брови, вертикальная морщинка над мясистым носом. Мощный лоб чуть отступает после надбровных дуг — таких выпуклых и четких… А рот… очевидно, с этих крупных, до конца сделанных губ была слеплена много тысяч лет назад маска греческой трагедии. И, вероятно, на свете еще не существовали реальные (а не выдуманные, на рисунках) человеческие уста, в такой же степени выражавшие эмоциональную взволнованность и готовность сказать обо всем самом важном для людей вот сейчас, тут же, громко, яростно и убедительно… Заметьте: все это было ясно, хотя вы еще не слышали ни одного звука, вылетавшего из этих губ. А в углу рта — такого рта! — самостоятельной, казалось, жизнью почти постоянно жила коротенькая папироска. Когда великан молчал, папироса надменно поднималась кверху и была просто дерзкой. Когда он заговаривал, папироса опускалась вниз и ни капельки не мешала движениям рта. Наоборот: чуть подпрыгивая от артикуляции губ, папироса словно тряслась в беззвучном хохоте, вызванном остротами, которые звучали рядом с ней — папиросой.
Легко, одним шагом, великан поднялся на сцену. Лектор невольно попятился поближе к кулисе.
— Я не знаю этого вашего… «…ковского», — сказал нарушитель лекционного обряда, — но если он действительно— поэт, то он вас не поблагодарит за ваше та-рах- тение.
Интонация была такою, что в зрительном зале засмеялись. Послышались аплодисменты. Великан поднял свою большую руку и спокойным движением человека, который привык к рукоплесканиям, успокоил слушателей. Тут собрался с духом и лектор. Он промямлил:
— Вы не имеете права перебивать! Я выступаю по путевке!
— Путевку я вам тоже могу выдать, — уже с откровенной улыбкой сказал великан.
В зрительном зале возник настоящий шквал смеха. Теперь хлопали все, и не сразу восстановилось спокойствие, хотя нарушитель лекционного порядка жестами и мимикой показывал, что он желает разговаривать с аудиторией. Он сказал:
— Товарищи, меня зовут Владимир Владимирович Маяковский…
Большая пауза. Бурные аплодисменты.
— Считаю, что мы познакомились. Так вот. Не для того пишут поэты, чтобы потом на головах плясали косноязычные комментаторы и пояснители. О поэзии можно говорить, только если любишь ее и уверен, что можешь свою любовь донести до слушателей.
Тут Маяковский повернулся в сторону лектора, который стоял уже за кулисами, и спросил:
— Гражданин лектор, кого вы сегодня хоронили по вашей путевке?
— Я не хоронил, — дребезжащим голосом ответил лектор, — я проводил беседу как раз о вашем творчестве, Владимир Владимирович…
Папироса в уголке рта подпрыгнула, будто она не могла остаться спокойной, услышав такие слова. Маяковский отвесил глубокий поклон.
— Благодарю, не ожидал!.. Если уж на то пошло, товарищи,—
Я сам расскажу о времени и о себе.
Еще раз аплодисменты, и сразу — полная тишина. Маяковский привычным жестом бросил папиросу на пол, придавил ее тяжелой каучуковой подошвой гигантского своего ботинка; снял пиджак и аккуратно повесил его на стул, освободившийся после бегства лектора. Он одернул книзу вязаный джемпер и чуть заметным движением обеих ладоней подтянул брюки. Затем помолчал. Сделал шаг вперед и начал бросать слово за словом в зрительный зал, который в едином движении подался навстречу его голосу:
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный, ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Читает он, скандируя: поэты не могут читать иначе.
Однако Маяковский не подчиняется ритмическому рисунку стихотворения: он обращается со своими слушателями настолько близко и полно, что, конечно, не может остаться за холодной решеткой метронома. Поэт явственно подчеркивает суть читаемого — интонациями, жестами, выражением лица. Впрочем, и делая смысловые паузы, замедляя и ускоряя свое чтение, Маяковский не теряет ритма вещи. Недаром же он говорил: «Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество».
И воистину, ритм его стихов заряжен электричеством, оно насыщает весь зрительный зал. Оно почти ощутимо — как нечто существующее в трех измерениях…
Рифмы Маяковского звучат в ушах его слушателей подобно ударам набатного колокола. И вместе с тем эти неожиданные и острые звуковые повторы — они как бы ступени широкой лестницы, по которым слушатели вместе с поэтом подымаются туда, откуда виден весь замысел произведения.
Маяковский обращает свои строки к потомкам. Но он беседует с будущими поколениями так, словно это — его современники, а не отдаленные и малопонятные живущему сегодня существа. И естественно, слушателям, к которым обращено в эти минуты лицо поэта, слушателям кажется, что они сами суть те, кому говорится:
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря…
Маяковский продолжает. И вот внезапно для сидящих в зале происходит чудо. Ведь еще совсем недавно шла обычная предыгра любого «концерта», «выступления». Затем слушатели стали следить за содержанием стихов, которые произносит этот удивительный великан. Как будто они целиком заняты этим.
И стихи не так просты: они требуют серьезного внимания. А сверх этого каждый из слушающих Маяковского очень скоро начинает ощущать, что он узнает и о самом поэте, и о его мыслях и чувствах гораздо больше, чем говорится в стихах.
Стихи как бы обретают новое, дополняющее первоначальный их смысл звучание, потрясающую значительность, удивительную интонацию проникновенности и чистоты, взволнованности и любви к людям, к родной стране. Словно некая картина — плоское черно-белое изображение на бумаге — вдруг дрогнула, и сперва не совсем ясна, а потом все точнее и четче обнаруживает неожиданную и волшебную глубину. Разноцветные тона проступают теперь сквозь сероватые оттенки этой картины. Вот картина преобразовалась окончательно. В возникшей неожиданно перспективе чуть колеблется воздух, радуют глаз все краски спектра. Вместо условного изображения предстает зрителю кусок живой жизни.
Или нет: обыденная жизнь намного бледнее, скупее, чем этот мир, созданный неповторимой личностью поэта. Все в нем больше, и глубже, и шире, и ярче, нежели представлял себе всякий из слушателей еще три минуты назад. Но только не в уютный мирок сказки уводит Маяковский свою аудиторию. В этом раздвинувшемся и расцветшем мире сразу же узнается наше время, наша страна, наши дела, наши помыслы. И сам поэт присутствует тут же, ибо вот это и называется лирика: разговор стихотворца о себе самом вместе со всем окружающим его на земле.