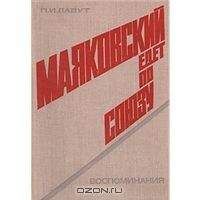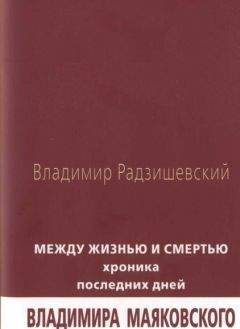Виктор Ардов - Этюды к портретам
Впоследствии вышли маленькие книжечки с фельетонами и юмористическими рассказами М. А. Булгакова. У меня есть две из них — и даже с авторскими надписями. Еще при жизни Михаила Афанасьевича я приобрел их у букиниста. Когда я попросил автора надписать мне их, помню — Булгаков был крайне удивлен, что я добыл его рассказы. На одной из книжек он написал: «Вы не человек, дорогой Виктор Ефимович, вы какой-то библиофил»; а другую брошюру он пометил очень забавно: «Этот труд я подписывать не намерен. М. Булгаков». Правда, на третьей своей книге — «Дьяволиада» (повести и рассказы) — Михаил Афанасьевич сделал такую теплую и лестную для меня надпись, что я не решаюсь ее воспроизводить…
Помню, часто в конце двадцатых годов Булгаков приходил в существовавший тогда «Кружок друзей искусства и литературы» (это был подвал в Воротниковском переулке, где в начале 1930 года вместо него открыли Дом работников искусств).
Так вот, придет, бывало, Михаил Афанасьевич в ресторан «Кружка» и садится один за столик ужинать. Моя Дружба с Булгаковым началась с того, что всякий раз, как кы встречались в «Кружке», я подсаживался к нему. Такие встречи приносили мне большую радость. В обществе людей, к которым он не относился с неприязнью, Булгаков удивительно обаятелен, мил и весел. Помню, например, как я был доволен, когда Михаил Афанасьевич похвалил один мой юмористический рассказ. Один! Ибо не часто расточал он комплименты: лгать в литературных делах он просто не умел.
Как известно, судьба спектакля «Дни Турбиных» в Художественном театре решалась не просто. Когда пришло время принимать готовый и удивительно талантливый спектакль, критик В. И. Блюм, возглавлявший отдел драматургии Главреперткома, решительно настаивал на запрещении. Я был лично знаком и даже приятельствовал с Владимиром Ивановичем, ибо мы оба сотрудничали в начале двадцатых годов в театральных журналах. Он был очень своеобразным человеком. Например, он неоднократно и решительно выступал с утверждениями, что в Советском Союзе не может быть места сатире, ибо должно утверждать новый строй, а не критиковать его.
Помнится, в 1929 году состоялся даже диспут на тему «Нужна ли нам сатира?» в Большой аудитории Политехнического музея. С докладом выступил В. И. Блюм, а ему возражали многие, в том числе М. Кольцов и В. Маяковский… Ильф и Петров написали отчет об этом диспуте в сатирическом журнале «Чудак». Сделанный в форме фельетона, отклик на диспут опубликован теперь в 5-м томе собрания сочинений Ильфа и Петрова издательством «Художественная литература».
Должен еще сказать, что, когда Малый театр поставил пьесу А. В. Луначарского «Медвежья свадьба» (по Мериме), тот же Блюм запретил этот спектакль, хотя Луначарский, как нарком просвещения, являлся его прямым начальством. И Анатолий Васильевич добивался опубликования спектакля через ЦК партии…
А с «Днями Турбиных» дело обстояло иначе. Художественный театр обжаловал решение реперткома. И ЦК назначил комиссию, которая просмотрела спектакль. Поначалу спектакль одобрен не был. Но неожиданно для всех «Дни Турбиных» поддержал И. В. Сталин. Он мотивировал свое решение тем, что спектакль показывает: даже самые хорошие люди обречены на гибель, если они сопротивляются революции.
Мне говорил сам Михаил Афанасьевич, что, когда его существование под влиянием РАППа стало совсем невозможным, он написал Сталину. И Сталин позвонил по телефону ночью Булгакову. Выслушал его объяснения и, по просьбе Булгакова, велел дать ему место режиссера в Художественном театре. Эту должность Михаил Афанасьевич занимал несколько лет. Так появился «Театральный роман»…
Однажды я собрался куда-то поехать летом. Пригласил и Михаила Афанасьевича. Мне казалось, что я еду в очень красивое место. Булгаков вяло ответил, что он был там и
ему не понравилось. Больше мы о том не говорили.
Но вскоре появился кто-то из друзей. Я стал уговаривать вновь пришедшего ехать со мной и горячо расхваливал предстоящую поездку. Тогда Михаил Афанасьевич сказал с великолепно наигранной завистью:
— Даст же бог такое красноречие! Мне даже захотелось туда поехать. А ведь я-то знаю, как там скверно…
Через несколько лет судьба свела нас в одном доме: мы стали жить в смежных подъездах писательского дома в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова). К тому же, помимо старых приятельских отношений, у нас появилась еще одна причина для частых встреч: пасынок Михаила Афанасьевича — Сережа Шиловский (ему было лет восемь) подружился с моим пасынком Алешей Баталовым (а Алеше исполнилось шесть лет). Мальчики вместе гуляли и играли. Булгаков, очень трогательно друживший с Сережей, часто заходил к нам вместе с ребенком. И мне приходилось навещать квартиру Булгаковых. И тут, конечно, много было говорено о литературе, искусстве…
Булгаков был поразительно деликатен и очень хорошо воспитан. Он, не стремясь к тому, производил впечатление какого-то чуда по обаянию и доброжелательности. В том случае, конечно, если не «зажимался» из-за присутствия неприятных ему и грубых людей. А так как в моем общении с ним не было никаких размолвок, конфликтов и вообще никаких поводов к охлаждению, то встречи с Михаилом Афанасьевичем всегда были для меня большой радостью. Я старался поведать ему, великому знатоку смешного, что- нибудь, что могло бы заставить его посмеяться. Он не оставался в долгу…
Я всегда считал Булгакова, который был на десять лет старше меня, удивительно одаренным мастером во многих литературных жанрах и не скрывал от него своего мнения. Такая «расстановка сил» сказывалась, конечно, и на характере наших отношений, наших бесед. Но Михаил Афанасьевич совершенно не умел чваниться: его вежливость создавала у человека впечатление, что он, собеседник, не менее умен и одарен, чем сам Булгаков: так строил свои реплики Михаил Афанасьевич, такая в нем была учтивость.
Разумеется, я гордился вниманием, которым меня удостаивал сам Булгаков!..
Мне казалось, что самая внешность Булгакова была удивительно симпатичной: светлый блондин выше среднего роста, гибкий и быстрый в движениях, с серыми глазами, которые все замечали вокруг и отражали все, что совершалось в душе их владельца, Михаил Афанасьевич одевался старомодно опрятно. Это был студент десятых годов нашего века, юноша из «приличной» интеллигентной семьи, который повзрослел, но не забыл манер тех годов. Да и лексика его устной речи была несколько старомодной. В этом тоже сказывалась ирония. Потому что, если наряду со старинными речениями возникали вдруг современные словечки, они звучали особенно смешно и сатирично.
Да, Булгаков был не похож ни на кого. И не только по внешним манерам, но и по отношению к жизни, к действительности. По своему творчеству.
Часто приходится встречать литераторов, которые непохожи на авторов собственных произведений: в такой мере они сдержанны или искательны, вооружаются искусственным весельем или, наоборот, являют себя миру надменными небожителями. И это в то время, как их опусы производят совсем другое впечатление.
А вот Михаил Афанасьевич очень похож был на свои сочинения. Та поразительная легкость и живость фантазии, которой отличаются все его рассказы и пьесы, буквально "изливалась из него. Он фантазировал в вашем присутствии, рассказывая о своих впечатлениях. А впечатлений непосредственных, недавних, вот сегодняшних, у Булгакова йсегда было очень много. Тут он напоминал мне только Одного человека: Илья Ильф так же жадно наблюдал за ^ем, что делалось и случалось вокруг него. Ильфа мы называли «зевакой», ибо он мог часами наблюдать уличный скандал или репетицию симфонического оркестра, футбольный матч или заседание в Арбитраже. И потом с воодушевлением все это не только рассказывал, но даже разыгрывал в лицах…
и Михаил Афанасьевич, передавая свои похождения или Соображения, оставался литератором: он не играл, а пи- устные рассказы. Но без своей оценки событий Булгаков никогда не рассказывал; правда, чаше эта оценка воз-!№кала не в отдельных фразах, а сквозила в самом изложении фактов. И это-то было самое интересное!..
Гиперболы, к которым, как всякий юморист, Булгаков прибегал, описывая что-нибудь, были такими мягкими, прятались в таких добрых и наивных интонациях, что сперва слушатель и не воспринимал эти преувеличения. Но вдруг рассказчик кладет, так сказать, последние мазки в своем варианте событий и все смеются — неожиданно для себя. Оказывается, мы внимали не обыденной истории, а отлично построенной юмореске, к которой автор незаметно подвел нас, — к нелепым и смешным сторонам и самого происшествия и его действующих лиц.