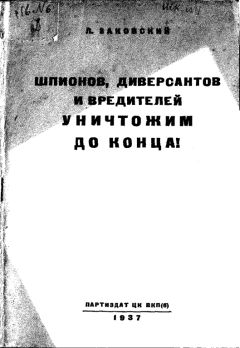Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий
Впрочем, профессор, кажется, и не затруднял себя поездками в горы; а в лучшем месте реки Чусовой, где она течет среди великолепных скал и утесов, именно между Межевой Уткой и Кыновским заводом, он и совсем не был…»
Заходясь в праведной ажитации, писатель даже и не замечает, что проговаривается, называя русские юга «благословенными»…
Возможен ли патриотизм в чистом, без примесей, виде? Без какого бы то ни было лукавого оправдания «личного способа производства» и персонифицированной заинтересованности кулика, хвалящего свое болото? Когда любят не за причастность, но за то, что вся эта красота и мощь существуют сами по себе, подчас даже и не благодаря, но вопреки многовековой погибели и систематическому урону? Нужно ли гордиться с простодушной наивностью, без подбора отмычек к другим областям и странам? Или же, напротив, святая простота — это ровно то, чего нам всем не хватает?
«Сахалин» А.П. Чехова
Самое интересное в этих очерках — то, что их пишет один из тончайших наших писателей, изобретатель подтекстов и символист в высшей степени, способный спрессовывать реальность до коротких, но предельно насыщенных кусков текстуального мяса. Так как сама по себе фактура и месседж (как жили в России плохо, так и живут до сих пор, ничего не изменилось: если и не по факту, то уж точно — в высшем смысле материально-духовных соответствий), сами по себе вряд ли интересны.
Да, гниют, голодают да бедствуют, звенят кандалами, обживают природу, противную существованию человека, но что мне Гекуба?
Тем более что телевизионные новости легко переплевывают целый полк таких вот Чеховых, вызывающих милость к павшим: с 1890-го года, когда Антон Павлович Чехов добровольно отправился на четырехмесячное закланье, из-за которого у него, в дороге, открылось кровохаркание, информационная картина дня несколько, э-э-э, изменилась.
И только чеховское имя, непростой для сердца звук, стало еще более важным и ценным, чем сто лет назад. Так как раньше Чехов был одним из, теперь же уж точно единственный и неповторимый.
Значит, рассказ этот не про ссыльных и про сопки, но про господина писателя.
Если Пушкин в «Путешествии в Арзрум» выдает стопроцентную гонзо-журналистику, то Чехов стремится быть максимально объективным. Точнее, текст делать таким образом, чтобы получалось не художественное, даже не публицистическое, но едва ли не научное произведение.
Во-первых, Чехов проводит импровизированную перепись населения во всех населенных пунктах, куда прибывает (10 000 карточек этих до сих пор хранится в Ленинской библиотеке), обрабатывая сведения, кажущиеся лично мне бессмысленными, но самому Чехову дающие возможность писать текст дальше и дальше.
Во-вторых, Чехов пишет (старается писать) бесцветно, точно диктант, намеренно изгоняя яркие образы и сравнения, делая стиль нейтральным и даже, по возможности, бесцветным.
Именно поэтому редкие метафоры здесь подобны разряду молнии и бьют прямо по сетчатке («От моря залив отделяется узкою длинною песчаною косой дюнного происхождения, за этою косой беспредельно, на тысячи верст раскинулось угрюмое злое море. Когда с мальчика, начитавшегося Майн-Рида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море. Это — кошмар. Поверхность свинцовая, над нею тяготеет однообразное серое небо. Суровые волны бьются о пустынный берег, на котором нет деревьев, они ревут, и редко-редко черным пятном промелькнет в них кит или тюлень…»).
Чехов выбирает единственно возможный градус личного присутствия: он пытается (делает вид?), что текст (ракурс, дискурс) самозарождается в толщах этой воды и в недрах этой земли, минуя насильственное авторство, появляется миазмами выгребной ямы (Чехов очень много внимания уделяет вопросам гигиены и чистоты, а также устройству туалетов: «В рыковской тюрьме эта тяга устроена так: в помещении над выгребною ямой топятся печи, и при этом дверцы закрываются вплотную, герметически, а ток воздуха, необходимый для горения, печи получают из ямы, так как соединены с ней трубой. Таким образом, все зловонные газы поступают из ямы в печь и по дымовой трубе выходят наружу. Помещение под ямой нагревается от печей, и воздух отсюда идет в яму через дыры и затем в дымовую трубу; пламя спички, поднесенной к дыре, заметно тянется вниз…»).
С другой стороны, равнодушная природа самозарождения оборачивается полной невключенностью автора в круговой обзор. Он здесь чужой, явный инопланетянин, чье высокомерие проявляется уже в способности фиксировать тюремный и околотюремный быт.
Изучает, наблюдает и фиксирует, точно энтомолог, обнаруживая очевидную двойственность позиции «русского интеллигента», который, с одной стороны, сочувствует и всячески мирволит, а с другой, вполне довольный своим положением, вряд ли поменяется с «простым человеком» местами.
Хождения в народ схожи с экскурсиями методом недолгого погружения. Чеховский поступок оттого и выглядит подвигом, что писатель посвятил полуострову (не считая долгой дороги по Сибири) четыре изнурительных месяца, подорвавших его здоровье. И четыре месяца — даже не четыре года, не говоря уже о целой жизни, растворенной в дальневосточной реальности. На этом фоне добровольно придуманного интеллектуального фронта, изобретающего поводы для самопродвижения (текста) призывы героев его пьес «надо работать» и «мы отдохнем» выглядят даже не желчью, но кровяными сгустками, высморканными вместе с гноем.
Дело даже не в этом биографическом контексте, позволяющем правильно расставлять смысловые акценты в авторском замысле, а в самой возможности авторства, вырывающего тебя из анонимности и, таким образом, ставящего над людьми в прямом и в переносном.
Чехов так легко «отказывается» от выпуклого описания и узнаваемого авторского стиля, оттого что авторство закреплено за ним онтологически, а любая тавтология избыточна и даже для элементарного эстетического вкуса выглядит как-то too much.
«В краю непуганых птиц» М. Пришвина
Попадая в деревню, на количество бань смотри: если здесь мир и покой, то бань в деревне немного, значит, люди в общие бани ходят.
А если не складываются отношения между людьми, баня у каждого своя. Впрочем, как и самовар.
Хотя нынче народ состоятельный пошел, и даже те, кто ни чаю, ни кофею не потребляет (староверы) имеют даже не один, но два самовара, вот ведь оно как.
«Да что далеко ходить! — вставила свое словечко старушка. — Годов десяток, не больше, у нас на всем Выг-озере и был самовар у койкинского батюшки, да на Выгорезском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона… всего девять самоваров было. А теперь у каждого…»
Здесь женщины, подоткнув юбки, рубят траву, стоя в воде болота; коров возят на лодках на остров пастись (на большой земле корма мало — не растет); вспахивая каменистые участки, камни не убирают (без них тепло не держится и вода испаряется быстро-быстро), но перекладывают — до пяти раз за сезон; а местный фотоохотник приспособил фотокамеру повесить на рогатину, дабы, когда медведь на дыбы встанет, его в этом состоянии щелкнуть.
Хотя всякий знает, что «звиря» бояться не следует, ибо даже есть присказка, мол, «господь покорил его человеку»; но если медведь все ж таки на человека кидается, значит он просто «нечистый» и на него колдун («жрецы, языческие священники») порчу навел.
Делов-то.
То, что выглядит синтезированной фантазией, на самом-то деле чистая, незамутненная правда, собранная в самых что ни на есть полевых условиях.
Хотя и не без самолюбивой писательской причуды — ведь «В краю непуганых птиц» появилась по заданию журнала «Родник», куда Пришвин пришел с предложением написать повесть о мальчике, заблудившемся в северном лесу.
Творческая заявка сначала не прошла, но в путешествие его отправили; точнее, дали с собой «бумагу», с которой что же теперь делать? («Как характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность?»)
Круче поступим, креативнее.
Попав в Выгорецию, несуществующее государство старообрядцев и поморов, находящееся на территории Выговского края, тоже, ведь, не существующего как географическое понятие (есть Поморье, есть Выг-озеро, есть Петрозаводск и Повенец — «всему миру конец» и Онежское озеро, Соловецкий монастырь, короче, Карелия) молодой агроном Михаил Пришвин стал всячески проникаться местными обрядами да языковыми особенностями.
И так проникся, что на основе своих записей сотворил ритмико-символическую, символистскую прозу, основанную на причетах да заплачках, местном фольклоре и мифопоэтических представлениях (в духе «понюхал старик Ромуальдыч свою портянку да аж заколдобился»), впрочем, сделанную столь ловко и органично, что, кажется, таким и должен быть текст, написанный изнутри архаического или же раскольнического сознания.