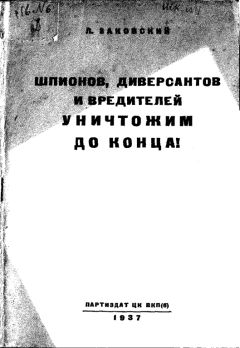Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий
Во-первых, такова центростремительная сила контекста, когда фразу, подобно куску дерна, нужно вытаскивать из текста со всеми слоями, корнями, перегноем и окружающей действительностью.
Во-вторых, ты же сам параллельно думаешь, и система зеркал, возникающая между тобой, автором и текстом не такая прямая, как обычно; она, что ли, более подвижна и менее параллельна.
Читая, ты вспоминаешь свой опыт, увеличивая объем и акустику битовских фраз за счет наполнения собственными переживаниями; поэтому, прочувствовав очередной приступ «здесь-бытия», возвращаешься к первоисточнику и уже не находишь той глубины, что тебе только что привиделась, но лишь бледную тень бледной тени.
Значит, искусство Битова еще и в том, что тебя самого зарядить, подключив с помощью написанного к автономным источникам питания; а это уже, безусловно (без каких бы то ни было скидок) высочайший уровень.
Примерно так же устроены тексты лекций Мамардашвили, которые, если взять их под микроскоп, начинают расползаться старой дерюгой; примерно так устроены книги Фуко, чей кружевной синтаксис сублимирует не столько фигуры речи, сколько фигуры интуиции и отнюдь не интуитивного, но на точном знании основанного, мышления.
«Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?»
«Уроки Армении» — самый цельный битовский текст («монтаж не потребовался»), так как обычно писатель конструирует свои прозаические массивы (тут можно взять любое его «единое» образование, от «Пушкинского дома» до «Улетающего Монахова» или «Оглашенных») из более мелких, дробных, порой в пару страничек, записей, стыкуя их между собой, подчас едва ли не произвольно.
Вот и «Выбор натуры», вторая часть кавказских дневников, посвященная Грузии, состоит из такой жанровой и дискурсивной чехарды, нанизываемой на круги расходящихся ассоциаций более десятка лет.
«Уроки Армении» (десять дней в Ереване и около двух лет расшифровок, выпрямления записей) выданы единым смысловым и стилистическим куском, тогда как грузинские впечатления намеренно проложены личностными заметками, не имеющими к Тбилиси и его окрестностям никакого отношения. Уже в первом таком отступлении молодой писатель ведет дочку в ленинградский зоопарк, где они видят последнего медведя; в самом объемном отступлении Битов описывает пьянку с печником, соседом по дачному поселку (очевиднейший прообраз «Человека в пейзаже»), в самом последнем — ударном, он рассказывает о смерти отца и о жизни матери (что всегда встречает небритого и вечно грустного сына куриным бульончиком) в доме стиля модерн….
Если сложить все эти негрузинские впечатления, вставленные внутрь «Грузинского альбома», где самое интересное — портреты Резо Габриадзе, Отара Иоселиани и Эрлом Ахвледиани (в армянских заметках все герои, от Сарьяна до Гранта Матевосяна, личных имен лишены, обозначенные как «старик» или «друг»), получится, что «ленинградского» здесь больше, чем «кавказского».
Копаться в чужих чувствах интереснее, нежели в реальности, тем более, грузинской — ведь когда ты берешь «Книгу путешествий» Андрея Битова, то меньше всего интересуешься Арменией или Грузией, Хивой или Уфой; тебе важен сам ретранслятор, уравновешивающий своим посредничеством тебя и целую область (а то и страну). Ибо рассказы влюбленного человека о предмете своей страсти всегда интереснее, чем сам тот человек, о котором ты столько всего слышал, а когда увидел, то долго удивлялся, где находятся глаза того, кто тебе все уши прожужжал. Да там ведь, в ушах, и находятся — он-то о своем пел, а ты, в свою очередь, свое представил.
Так и здесь: Битов не Тбилиси с Ереваном описывает, но собственные чувства и наблюдения по поводу Тбилиси и Еревана, из-за чего у тебя возникает возможность побывать не в реальных городах, но небесных городах высокого битовского полета; вот в чем разница!
«Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что дописав ее до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а в этой вот своей книге путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению…»
Странный при этом сооружая парадокс: грузинский «Выбор натуры», против общих «Уроков Армении», написан на более личные темы (по сути, на фоне Кавказских гор нам предъявлена карта-схема внутреннего битовского метрополитена), однако эта интимность оказывается поверхностной, что ли, не такой глубокой, как в «Путешествии в небольшую страну» (подзаголовок армянской части).
«Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово, одно, чтобы назвать то, что мы видим: мир…»
Кажется, дело здесь в том, что в Ереване писателя занимали «общечеловеческие вопросы», тогда как в Тбилиси он приехал, во-первых, истратив все восторги и превосходные степени (то есть нужно искать новые стилистические краски и ракурсы — издержки того, что каждая книга пишется как последняя, да?) раньше; а во-вторых, он приехал подгоняемый «грузинским шестидесятническим мифом», развивать его и укреплять.
А миф этот оказался более локален (в том числе и во временном плане) и преходящ. Да и дробность, конечно, каждый раз сбрасывающая возбуждение, тоже свое (в общем впечатлении от книги) сыграла. Именно в «Выборе натуры» Битов, закусив удила, уходит в окончательный технологический и экзистенциальный отрыв, устраивая себе уже вообще ничем, даже Грузией не мотивированный, сеанс публичного психоанализа. То, что называется, перемудрил.
…Кстати, неслучайно, как я уже написал, «Книга путешествий» построена по хронологическому принципу — по ней лучше всего видны изменения авторского стиля (и всего того, что этому соответствует) — от кружевной ритмичности начала («Одна страна», «Путешествие к другу детства» и «Колесо») к слишком рано открывшейся зрелости («Птицы», «Азарт», «Уроки Армении») и интеллектуальной изощренности («Выбор натуры»), обернувшейся дробью и началом распада…
…империи или же жанровой формы…