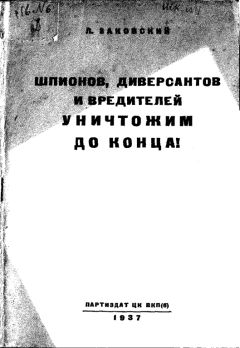Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий
Очерк начинается с того, что у тележки, на которой Иван Сергеевич возвращался с охоты, «перегорело» колесо — ось сломалась.
Писатель, по привычке, в которой для него нет ничего особенного, вламывается в ближайший двор, где и находит похмельного Касьяна, который отказывается помогать незнакомым людям даже за деньги.
«— Что надо? — спросил он меня опять.
Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.
— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.
— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.
— Охотники.
— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?»
После некоторого препирательства Касьян теряет интерес к пришельцам, но Тургенев едва ли не насильно вытягивает из него помощь, в полновластии ощущения двойного господства: Касьян-Блоха обязан ему помогать и как холоп, и как персонаж, которого он с удовольствием поместит в свой писательский гербарий.
«— Послушай, старик, — заговорил я, коснувшись до его плеча, — сделай одолжение, помоги.
— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову.
— Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я… я заплачу.
— Не надо мне твоей платы.
— Да пожалуйста, старик…»
И, разумеется, вынудил Блоху к помощи, совершенно уверенный в непогрешимости своего охотничьего и барского статуса (почему-то кажется, впрочем, не настаиваю, что обломавшись, Тургенев писать о Блохе не стал бы). Потребительское отношение Тургенева к животным ничем не отличается от потребительского отношения к крепостным; весьма интересно было бы проанализировать психологические и лексические дубли, возникающие у охотника, скажем, в отношении своих собак. Или же детей: самым точным замечанием по поводу подростковых разговоров в «Бежином луге» Иван Сергеевич посчитал реплику Дудышкина, заметившего, что дети у Тургенева говорят как взрослые…
Оптика Тургенева кажется прогрессивной лишь до тех пор, пока он не встречает еще более прогрессивного человека, чем он, пока текст сам по себе не проговаривается о переоценке окружающих писателя общественных отношений и простых человеческих связей.
Эта непредумышленная правда самописца, вылезающая из текста «Записок» во многих местах, пожалуй, самое ценное, что может дать книга: смена ценностей обнажает многие смыслы, бывшие незаметными во время написания.
Порой возникает ощущение, что писались они (а ведь судя по некоторым подписям, сочинял Тургенев не по горячим следам, но проживая за границей, что говорит о том, что мы имеем дело с фантазмами) человеком, как бы надиктовывающим текст «от лица собственной маски». Или даже от лица нескольких масок. Так, одну из них можно назвать «охотник», другую — «русский», третью — «русский барин»; жонглирование этими разными дискурсами с обязательным каждый раз переключением оптики и составляет ключевой аттракцион этой странной книги.
Письма Н. Гоголя
Помня, какую важную роль в жизни Гоголя играл жанр писем, даже при жизни выделенный самим писателем в отдельную, официальную книгу, я решил перечитать переписку Николая Васильевича периода его заграничных вояжей. И если вытащить наружу зашитую в последних томах книгу, то вся она будет про «творческое горение» и «писательскую одержимость», а не про то, где Гоголь был, что видел и что ел. Тот случай, когда человек полностью ушел в одну, всепоглощающую страсть, превратившись в конечном счете в столпника и носителя этой страсти.
Так бывает, когда личность подчиняется одной, всепожирающей, специализации, полезной для «конечного результата» и «продукта», но которая сводит на нет, едва ли не буквально изничтожая, саму эту жизнь. Самого этого человека. И здесь невозможно со стороны решить, что лучше, — сохранить себя или выжать себя в «кусок дымящейся совести», каждый это решает для себя сам, однако же важно при этом заметить, что человек, обуянный своим предельным субъективизмом, не в состоянии увидеть и оценить то, что с ним происходит на самом деле; он, подобно слепцу, или, если быть более точным, наркоману (ибо страсти свойственно выстраивать внутри систем организма параллельную структуру, паразитирующую на природной, естественно-органической, и со временем подменять ее).
Для чего, собственно, и нужно, а подчас просто необходимо читать чужие письма.
Начало поездки (именно с точки зрения путешествующего повествования) кажется многообещающим. Из Женевы (27.09.1836) Гоголь пишет Н. Я. Прокоповичу о посещении усадьбы Вольтера, о котором, впрочем, он пишет как о живом:
«Сегодня поутру посетил я старика Вольтера. Был в Фернее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная аллея, в три ряда каштаны, дом в два этажа из серенького камня, еще довольно крепок…
Сад очень хорош и велик. Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно простриженный, другие вьются не регулярно, и во всю длину одной стороны сада сделана стена из подстриженных деревьев в виде аркад, и сквозь эти арки видна внизу другая аллея в лес, а вдали виден Монблан. Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего…»
В этом же письме Гоголь поминает Байрона, впрочем, не упоминая его, а Женеву, где прожил больше месяца, сравнивает с Тобольском.
Страсть подчиняет собой все человеческое существо — ударение тут падает на каждое слово: все (!) человеческое (!!) существо (!!!), вытесняя менее сильные мотивации и исчезает, только если сожрет человека окончательно, уничтожив, таким образом, собственный корешок. Однако структуры эти, один раз внутри организма выведенные, не могут существовать в полом виде, порожняком; отчего на смену сожранной страсти приходит другая, еще более опасная и роковая.
Кажется, судьба Гоголя должна явиться предостережением для тех, кто увлекается своими направлениями так, что перестает ставить перед ними какие бы то ни было сдерживающие факторы и, в конечном счете, забывает себя и то, кто он есть, точнее, кем он был на самом деле; заигрывается.
Одна важная мотивационная система (писательско-пророческая) постепенно уступает у Гоголя место другой (православно-пророческой); замаливание грехов и самоукорот оказываются логическим продолжением писательского самосожжения, вылезающим, как из под пятницы суббота, исподним одного и того же вируса общественного служения и личной ответственности, разрывающих мозг невозможностью соответствовать особенностям текущего момента и таким образом исправить (починить, наладить) их.
После чего человек начинает налаживать и перекраивать самого себя — и как то, до чего ближе всего добраться, и как то, что, единственное, ему всецело подвластно и всецело ему подчинено.
Симптом незрячести нарастает у Гоголя постепенно.
Первое путевое письмо, написанное Жуковскому (Гамбург, 28.06.1836) еще полно предотъездных треволнений (связанных с финансовым обеспечением путешествия), а также питерских тем и реалий, из-под которых, как из-под глыб, писатель должен выбраться этим самым отъездом, для того чтобы освободить свою голову для главного дела — написания главной русской книги «Мертвые души».
(В этом смысле показательно участие, которое он принимает, судя по письмам, в том числе и тому же Жуковскому, в судьбе художника А. А. Иванова, писавшего тогда многолетнее «Явление Христа народу», главную русскую картину; таковы, по всей видимости, и были понятия и принципы той богатырской эпохи, что обрушилась и тем порушила своих детей.)
Второе письмо, сестрам (Ахен, 17.07.1836), как и пара последующих за ним других, переполнено путевыми заметками и замечаниями (в нем есть даже рисунки с изображением особенностей немецкой городской и готической архитектуры), разжеванными Гоголем в стиле, напоминающем детские книги «для самых маленьких», хотя и выполненными в фирменном гоголевском стиле с вниманием к петляющему и избыточно дотошному до деталей синтаксису:
«Знаете ли вы, что такое пароход? Но нет, вы не знаете, что такое пароход, потому что он, кажется, никогда не прогуливался под вашими окнами. Это корабль, который беспрестанно дымится и запачкан, как трубочист, но зато идет гораздо скорее, нежели обыкновенный корабль. Я думаю, вам показалось бы очень странным ехать на корабле. Вообразите, что кругом вас одно море, — море, и больше ничего нет. Вы, верно бы, соскучились, но у нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды, одна из них, m-m Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря…»