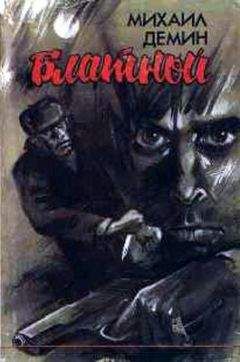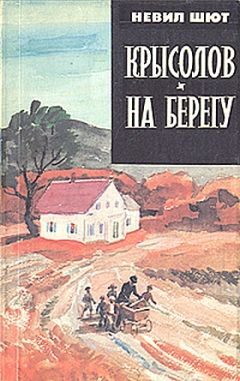Абдижамил Нурпеисов - Долг
— А знаешь, ее зовут Бакизат...
Ты несколько раз повторил про себя это имя. И каждый раз кончиком языка будто к раскаленному угольку прикасался. И вот теперь та девушка... твоя голубая мечта... Да, поистине неисповедимы пути...
* * *
Однажды он решил проведать Бакизат. Когда пришел в общежитие женского пединститута, маленькая комната была полна девушек, отчего ему стало не по себе. Бакизат, видно, никак не хотелось, чтобы подруги приняли этого неуверенно вошедшего долговязого малого за ее парня, и потому, едва он переступил порог, торопливо представила:
— Мой земляк. Из одного аула. Прошу любить и жаловать.
Одна из девушек, маленькая, шустрая стрекотуха, прыснула!
— Все джигиты почему-то всегда твои земляки...
Остальные девушки вроде как смутились, но на самом деле насмешка стрекотухи пришлась всем по душе. А Бакизат по обыкновению сделала вид, что ничего не заметила, и спокойно продолжала:
— Одну школу окончили.
Бойкая стрекотуха опять прыснула:
— Может, и за одной партой сидели?!
Промолчать бы тебе, да черт дернул за язык:
— Нет, мы с Азимом окончили школу на два года раньше.
Бойкая стрекотуха оглянулась на дверь и хмыкнула:
— О, легок на помине. Тут как тут, голубчик!
В самом деле, дверь распахнулась... и в комнату с привычной уверенностью вступил, широко улыбаясь, Азим. При виде друга ты вскочил, но тут же понял, что допустил оплошность и, сконфуженный, сел снова, заметив на себе лукавый взгляд маленькой стрекотухи, густо покраснел. Азим обошел всех девушек, здороваясь с каждой из них, притягивая к себе и поочередно обнимая, и когда наконец дошел до Бакизат, все та же стрекотуха, поджидавшая этот момент, бойко скомандовала:
— А ну, девоньки, закройте глаза!
Девушки, казалось, только этого и ждали, все как одна послушно и дружно прикрыли лица ладонями: и только ты один, не зная как быть, растерянно глядел. Вот тут стрекотуха, поймав твой взгляд, знаком показала: закрой глаза, живо! Ты, как послушный ученик, моментально покорился. Через мгновение она шепнула тебе на ухо:
— Все! Можешь открывать.
Девушки умирали со смеху, некоторые даже попадали на кровати, зарылись лицом в подушки. Азим отпустил невольно зардевшуюся Бакизат и, кажется, только теперь увидел тебя.
— Я его разыскиваю, с ног сбился... Впредь буду знать, где тебя искать...
Нет, ты не осуждал друга, когда он позволял себе лишнее в присутствии девушек. Тебе самому хотелось быть таким же, как он, насмешливым и веселым, посмеяться, подтрунить над кем-нибудь. О, если бы и ты только мог, находясь в веселом кругу очаровательных девушек, оставаться таким же, как Азим, раскованным, находчивым на язык, мог балагурить без умолку и нести с легким сердцем всякий там вздор, как это удается твоему дружку!
Но тесно, душно было тебе в комнате. И ты сидел подавленный, потный, чувствовал себя здесь лишним, проклинал за то, что пришел, и напряженно раздумывал, как бы скорей, улучив момент, незаметно убраться отсюда. И в это время, как нарочно, насмешница стрекотуха принесла исходивший паром алюминиевый чайник. Азим подсовывал тебе чашку за чашкой крутого чаю, с преувеличенным усердием потчевал:
— Пей, дружище, пей!
И ты, обливаясь потом, только подносил чашки горячего чая к губам. Азим же, обращаясь к девушкам, сокрушенно вздыхал:
— Вы уж не обессудьте! У моего друга, пока не напьется чаю, голова болит. Что поделаешь, привычка.
Будь оно проклято! Дрожащими руками ты пошарил по карманам, но, как назло, платка при тебе не оказалось.
— Сейчас, дорогой, — сказал Азим, бросив взгляд на тебя, изнывающего от пота, и достал из кармана выглаженный, чистый платок. И нет чтобы дать его как-нибудь незаметно, наоборот, развернул, как бы приглашая посмотреть всех, какой он чистый и надушенный, лишь после этого сунул при всех в твою потную руку... взрыв хохота, и ты, не помня себя, сорвался с места, выбежал в коридор, а оттуда на улицу...
После этого случая ты обходил общежитие ЖенПИ за версту. И Азим а не видел и не желал видеть. Хотя и сам еще толком не вник в то, что новое открылось тебе в твоем бывшем дружке. И почему-то не выходила из головы пущенная про него кем-то острота: «О, эта бестия, пока доберется к своей цели, попутно с десяток девиц перещупает...» В тот раз сам видел: покуда он добирался к Бакизат, как кот к салу, перечмокал всех девушек подряд. Ты клял себя, что не съездил тогда по его красивой физиономии.
Приплелся к себе в общежитие как побитый, плюхнулся на койку с продавленной сеткой, лежал долго, пусто уставившись в потолок. Не знал отчего, но был зол и на Бакизат. «Видеть тебя больше не хочу. Никогда... никогда к ней ногой... Не желаю!» Как заклинание, исступленно бормотал эти слова отчаяния и тоски.
Ты радовался, что наконец-то спала с глаз пелена. Был уверен, что отныне не потерпишь ни от кого ни насмешки, ни тем более превосходства. И потому ты каждый раз приходил в бешенство, вспоминая его во многом странную привычку наедине с тобой, с глазу на глаз, хвалить-расхваливать все в тебе, вплоть до твоих ушей, носа и рта. А потом стоило вам оказаться в компании среди девушек, как он вдруг менялся, начинал с такой же легкостью высмеивать все те же твои, недавно расхваленные им самим уши, глаза, рот, будто говорить или шутить было больше не о чем... При этом сам явно получал удовольствие, от души хохотал. Ты был уверен, что отныне всему этому пришел конец. Да, конец! Конец! Но вот однажды... кажется, это было в воскресенье, нет, в субботу. Впрочем, неважно, кажется, ты выходил из студенческой столовой или, наоборот, входил — это тоже неважно; и вот кто-то у дверей резко схватил тебя за руку. Ты оглянулся. Азим стоял рядом с тобой, обнажив сахарные зубы, весело смеялся:
— Эй, батыр! Подожди...
Ты удивился: «батыр» — это что-то новое. Раньше он называл тебя обычно «парнем», а то и «мальцом». А тут вдруг — батыр... Ну, коли он теперь начал так, то недолго ждать и новой какой-нибудь изощренной клички, вроде Кобланды-батыра из рода Кара-Кипчак...
— Ну, батыр, где ты пропадаешь?
— Говорят, какой-то мудрец сказал: «Под небом аллаха много простора...»
— О-го!..
— Что еще скажешь?
— Не ерепенься. Пошли к девчатам.
Азим был уверен, что ты безотказно последуешь за ним, и потому пошел по многолюдной улице, что-то оживленно говоря. Воодушевившись, он даже размахивал руками и изредка похохатывал. Прохожие оглядывались на него, один даже испуганно шарахнулся в сторону. Азим, наконец заметив на себе странные взгляды людей, остановился, поискав тебя, и увидел, к своему удивлению, что рядом, оказывается, никого нет. Потом, спустя месяц, вы встретились, Азим несмело подошел к тебе и, поравнявшись, ткнул локтем в бок:
— Жадигер...
— Ну?!
— Ты вроде... что, обижаешься на меня, да?
— Как, по-твоему... мне есть за что на тебя обижаться?
— Бог его знает... Но в тот раз... помнишь, ни с того ни с сего ты вдруг надулся и пошел восвояси.
— A-а... тогда у меня дело было. Свое.
— Нет, не то. Что-то ты, батыр, переменился.
— Тоже не исключено, — сказал ты спокойно и даже с некоторым вызовом, впервые прямо глядя в глаза Азима. «А почему бы и нет? Меня, если хочешь знать, так и подмывает съездить разок-другой по твоей роже...» Слова эти просились у тебя с языка, и ты намеревался сказать их просто, без обиды и злобы. Разговор у вас так и не получился. Норовя разойтись поскорее, вы не столько говорили, сколько скучающе досматривали по сторонам. И после этого долго избегали друг друга. Только потом, через несколько месяцев, встретились вновь, дружба ваша как будто возобновилась, хотя и без прежнего с твоей стороны пыла и привязанности. Опять ходили вместе. Но с той поры живут в твоей душе неразлучно два разных Азима. Первый тот, с которым прошумело морем, пропахло степью детство, с которым делился горячими юношескими мечтами, надеждами... Второй — пренебрежительно сунувший в твои потные ладони свой надушенный платок.
Да, два разных Азима, попеременно одолевая друг друга, жили отныне в тебе. Но не в нем, не в Азиме, суть. В ту пору случилось с тобой такое, что и в самом причудливом сне не могло присниться. В тот день... Да, кстати, с чего тогда все началось? Ну да, приближался госэкзамен. Началась для студентов самая горячая пора. С учебниками ложились спать и просыпались с ними рано поутру. В тот день ты особенно устал. Гудела голова. Когда вышел на улицу, солнце перевалило зенит. Зажмурился, отвел было голову в сторону, и тут утомленный твой взгляд упал на одинокий тополь. Он был старым. Старее, пожалуй, самого здания общежития. От долго прожитых им годов в нелегкой борьбе с ветром и снегом весь могучий ствол его покрылся коростой, словно панцирем. За пять лет студенческой жизни сколько раз ты проходил мимо, не замечая его. А в тот день... При виде старого тополя, пораженный, даже остановился. Кто знает, может, это было предзнаменованием. Просто тебе на роду он, старый тополь, был написан как нечто неотвратимое, неизбежное. В самом деле, не обрати тогда на него внимания, быть может, по другой колее повлеклась бы медлительная арба твоей судьбы и не томился бы сегодня весь день на пустынной льдине. Потом, много лет спустя, сколько бы ты ни думал, сколько бы ни пытался разобраться в истоках вашей с Бакизат нелепой жизни, мысль твоя неизменно возвращалась к тому тополю. Чем-то он тогда тебя поразил. Быть может, неистребимым жизнелюбием, как у того, знаменитого дуба... Еще только вчера в угнетенном долголетием старом тополе не было ничего, кроме брезгливого равнодушия ко всему: к весне, к миру. А теперь смотри — бунтующая сила весны оживила и его неподдающуюся каким-либо переменам дремучую душу, погнала живые соки, словно горячую кровь по телу. «Даруя щедрым благом божьим, вернулась к грешному весна!» Повторяя про себя невесть откуда пришедшие на память строчки, ты привалился спиной к толстому, в два обхвата стволу старого тополя. Тебе стало вдруг радостно от того, что весна вступила в силу и властно распоряжается всем и всюду. У подножия Бел-Арана наверняка тоже поднялась молодая полынь, оглушая окрестности своим терпким, пьянящим духом. Охваченный щемящим чувством тоски по родному аулу, ты смутно ощутил, как налетел с гор ветерок. И тут же снизу и доверху, ожив, зашуршали, затрепетали листочки. Запорхали с ветки на ветку воробьи. Ты еще не знал, с какой радости тянется, рвется твоя душа, но сердце трепетало и томилось в ожидании чего-то прекрасного, неизбежного. Стайка хлопотливых птах суетилась, все чирикая, носясь с ветки на ветку, порхая над тобой. Видать, весна принесла в их бесхитростную жизнь немалые заботы и волнения. Сами по себе совсем малые, о чем все-таки они щебечут? Может, среди суетных забот они делятся друг с другом теми крохотными радостями, которые им довелось испытать за день? Или просто радуются напоенному негой весеннему дню, своему гнезду? А ведь им, беднягам, так же как и людям, приходится метаться в бесконечных хлопотах о судьбе готового вот-вот появиться потомства. Может, об этом их озабоченное щебетанье сейчас?