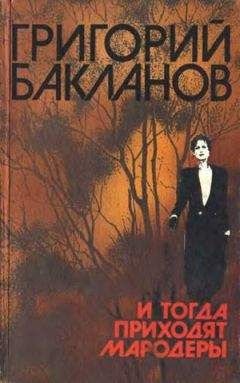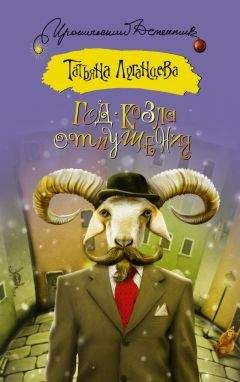Умберто Эко - Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю (сборник)
Еще в 1956 году в Милане в театре Ла Скала освистали Шёнберга. На премьере «Пассажа» (музыка Лучано Берио, слова Сангвинетти) в 1962 году публика до того рассвирепела, что, возмущаясь этим слишком новым и жутким произведением, кричала: «Левоцентристы!» Роберто Лейди[149], который никогда не примыкал к «Группе-63», но принимал участие во всех событиях, связанных с новой музыкой и с возвращением к музыке уже ушедшей, вместе с Берио, не знаю, при каких обстоятельствах, услышал в свой адрес гневное: «Поезжайте в Россию!» К счастью, они не поехали, иначе угодили бы в ГУЛАГ при царивших в то время порядках. Но тогда для публики все новое было связано с коммунистами. Сразу видно, что за последние сорок лет положение не сильно изменилось, или же в царстве обмана действует закон вечного возвращения.
На Миланском радио была программа «Студия музыкальной фонологии», которую создали Лучано Берио и Бруно Мадерна и куда приходили Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен, Анри Пуссёр и другие, чтобы выжать по максимуму из своих новых электронных инструментов. В конце 50-х годов Лучано Берио опубликовал несколько выпусков «Музыкальных встреч», где впервые прозвучала идея сопоставления теории «новой музыки» и структурной лингвистики и увидела свет полемика Пуссёра с Николя Руве; из этих статей в 1962 году родилось мое «Открытое произведение». Кроме того, как раз на одном из музыкальных вечеров, организованных Булезом в Париже, в конце 50-х я встретился с Роланом Бартом.
В Студии фонологии побывал даже Джон Кейдж, чьи партитуры (нечто среднее между произведением визуального искусства и издевательством над музыкой) были опубликованы в «Литературном альманахе Бомпьяни» 1962 года, посвященном применению в искусстве электронных вычислительных устройств, там же появилось и первое стихотворение, сочиненное компьютером, – «Ленточный маркер I» Нанни Балестрини. В Милане Кейдж создал свой «Fontana Mix», но никто не помнит, откуда взялось это название. Кейджа поселили в пансионе у синьоры Фонтана; он был очень привлекательным мужчиной и значительно моложе синьоры Фонтана; она же, когда сталкивалась с ним в коридоре, всякий раз домогалась его. Кейдж, чьи пристрастия, как известно, были иными, стоически сопротивлялся. В итоге он назвал свое произведение ее именем. Потом, во времена полного безденежья, с подачи Берио и Роберто Лейди прибился к передаче «Оставляешь или удваиваешь?» в качестве эксперта по грибам и устраивал на сцене невообразимые концерты для миксера, радио и разных бытовых электроприборов, а Майк Бонджорно спрашивал, футуризм ли это. Рождались удивительные связи между авангардом и СМИ, хотя, казалось бы, поп-арт был еще где-то далеко в будущем.
Если говорить о событиях тех лет, то нельзя не сказать о 1960 годе, когда в Италии наконец-то вышел «Улисс» Джойса, а еще до того Берио, Лейди и Робер-то Санези начали работать над музыкальным сочинением «Посвящается Джойсу», в основу которого легли звукоподражательные слова из 11-й главы книги. Сегодня мы бы охарактеризовали это сочинение как попытку постичь смысл, работая над смыслом, или же как дань уважения языку, являющемуся ключом к пониманию мира.
В 1962 году Бруно Мунари открыл в галерее Миланского собора первую выставку оптико-кинетического искусства и размноженных произведений, которую поддержали Джованни Анчески, Давиде Бориани, Джанни Коломбо, Габриэле Девекки и Грация Вариско, Группа Н, Енцо Мари и сам Мунари.
Я веду к тому, что «Группа-63» появилась не из пустоты и не из пустоты сформировалась антология «новейших», объединившая Сангвинетти, Пальярани, Джулиани, Порту и Балестрини.
На другой встрече я попытался доказать, что многие из этих ферментов можно отнести к «падуанскому просветительству», и не случайно Анчески выбрал для журнала имя Вери[150]. «Иль Верри» возник в том Милане, где во время войны издательство «Роза э Балло» открыло читателям тексты Брехта, Йейтса, немецких экспрессионистов и раннего Джойса, в то же время «Фрассинелли» в Турине открыло и Мелвилла, и «Портрет художника в юности» Джойса, и Кафку. Само собой, термины «падуанский» или «ломбардский» носят символическое значение, поскольку в том климате существовали сначала сардинец Грамши, затем сицилиец Витторини, и не случайно первое собрание «Группы-63» произошло в Палермо во время музыкального и театрального фестиваля, в котором участвовали многие европейские страны. Я говорю о падуанском просветительстве, так как «Группа-63» зарождалась в особых культурных кругах, где не принимали взгляды Кроче, а значит, и южную культуру: это был круг всяческих Банфи, Жемона, Пачи, ставшего уже туринцем неаполитанца Аббаньяно. В этой среде складывался неопозитивизм, читали Паунда и Элиота, издательство «Бомпьяни» в серии «Новые идеи» публиковало все то, что в прошедшие десятилетия не попало на цветочные обложки издательства «Джузеппе Латерца и сыновья». «Латерца и сыновья» и «Мулино» знакомили нас с неведомыми до тех пор критическими теориями: от русских формалистов через Уэллека и Уоррена до «новой критики»; в «Эйнауди», «Фельтринелли», а позднее в «Саджаторе» переводили и издавали Гуссерля, Мерло-Понти и Витгенштейна; читали Гадду и только-только открывали для себя Звево, про которого раньше всегда говорили, что он плохо пишет; Джованни Джетто читал Дантов «Рай», подводя нас к интеллектуальной поэзии, которую Де Санктис не мог всецело оценить, ибо был еще связан с поэзией человеческих страстей.
В треугольнике Турин – Милан – Болонья понемногу назревали первые обращения к структуралистским теориям. Но хотя в дальнейшем кто-то и говорил о слиянии авангарда со структурализмом, верить этому не стоит. Почти никто из «Группы-63» не занимался структурализмом, зато он процветал в среде филологов из Павии и Турина (Марии Корти, Чезаре Сегре, Д’Арко Сильвио Авале); и две эти традиции развивались, можно сказать, независимо друг от друга (наверно, единственным человеком, сидевшим на двух стульях, был я). Подобные наслоения и формировали климат.
Помню, как Эудженио Скальфари, который в 1965 го ду предложил мне сотрудничать с журналом «Эспрессо», поначалу, когда я писал рецензию на Леви-Стросса, советовал всегда помнить, что пишу я для южан, адвокатов-крочеанцев. Таков был климат и в сфере общественной мысли, наиболее открытой для всего нового, но я отвечал Скальфари, который, впрочем, на меня не давил, что нынешние читатели «Эспрессо» – внуки тех адвокатов-крочеанцев, они читают Барта и Паунда, а взращивает их палермская школа.
Нельзя забывать, на чем тогда строилась марксистская культура. Во время крупных «официальных» дискуссий об искусстве марксисты придерживались линии советского соцреализма, отсюда и гонения на писателей, пускай и близких к компартии, но которых при желании можно было заподозрить в греховном пристрастии к возрожденному романтизму или еще к какому извращению, и я сейчас имею в виду не писателей-авангардистов, а Пратолини с его «Метелло» или Висконти с «Чувством», не говоря уж о фильмах Антониони, которые вызывали оцепенение, что не слишком удивительно, ибо за, казалось бы, частной драмой стояло обличение отчужденного капиталистического мира. На самом деле, взгляды итальянских марксистов на культуру формировались в первую очередь на основе теорий Кроче и идеализма.
Чтобы лучше понять ту атмосферу, стоит вспомнить о стараниях Витторини, считавшегося еретиком еще со времен «Политехнического» (это название снова отсылало к ломбардскому просветительству Каттанео): в 1962 году он выпустил переломный пятый номер журнала «Менабо», который вошел в историю. Четвертый номер «Менабо» Витторини посвятил индустриальной литературе, подводя под это понятие авторов, писавших о новой индустриальной реальности (за два года до того Оттьери опубликовал в серии «Жетоны» издательства «Эйнауди» замечательный роман «Доннарумма идет в атаку», а в четвертом номере «Менабо» вышел его «Индустриальный блокнот»). В 1960 году во втором номере «Менабо» Витторини опубликовал поэму Пальярини «Девушка по имени Карла» – она потом заняла почетное место в антологии «новейших».
Доверившись своему безошибочному чутью, он решил посвятить пятый номер «Менабо» новому пониманию словосочетания «литература и индустрия» и сосредоточил внимание не на индустриальной теме, а на новых стилистических тенденциях, которые появились в мире, подчиненном высоким технологиям. Это был смелый переход от неореализма (где содержание превалировало над стилем) к исследованию стиля нового времени, так же как после выхода моего обширного эссе «Придание формы как наложение обязательства на реальность» стали появляться совершенно невообразимые литературные опыты Эдоардо Сангвинетти, Нани Филиппини и Фурио Коломбо. Еще вышло эссе, автор которого, на первый взгляд, со мной полемизировал, но, по сути, соглашался, – это «Вызов лабиринту» Итало Кальвино. Он тогда сказал мне: «Извини, но Витторини (за Витторини стояла марксистская культура той эпохи, от которой он отделился, но перед которой тем не менее все еще вынужден был отчитываться) попросил меня выставить санитарный кордон». Дорогой, любезный Кальвино, чья судьба впоследствии скрестились с судьбами тех, кто бродил по расходящимся тропкам и тяготел к экспериментаторству УЛИПО[151].
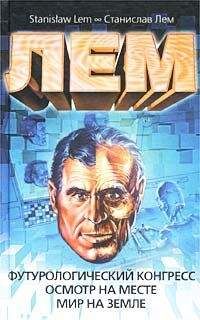
![Татьяна Луганцева - Жизнь прошла мило [сборник]](/uploads/posts/books/161129/161129.jpg)