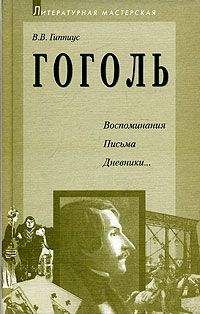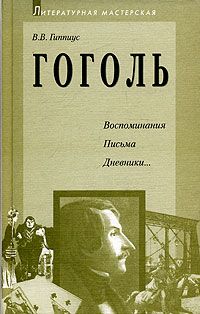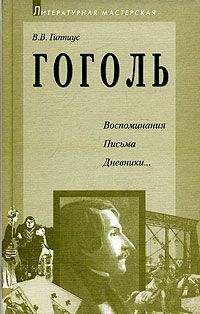Владислав Отрошенко - Гоголиана и другие истории
Но это далеко не все, что стало известно о воспетой Катуллом Лесбии, благодаря тому, что ритор Апулей однажды вымолвил ее настоящее имя.
Не одна только «Книга Катулла Веронского» увековечила ее образ. Под собственным именем она выступает персонажем и другого уцелевшего произведения – «Речи в защиту Марка Целия» (Pro M. Caelio oratio), написанной Цицероном и произнесенной им 4 апреля 56 года до Р. Х. перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина.
Клодия участвовала в этом процессе. Более того, именно она тайно направляла все действия обвинителей (в их числе был и ее брат Публий), которые привлекли к суду юного оратора Марка Целия – ее любовника и близкого друга Катулла. Целию среди прочего вменялась в вину попытка отравить Клодию при помощи ее же золота, которое он будто бы использовал для приобретения яда и подкупа рабов-исполнителей. Образ Клодии, нарисованный в этой речи, лишен той восхитительной двойственности, какую ему сообщает поэзия Катулла.
Не выказывая ни малейшего признака божественности, Клодия у Цицерона предстает родовитейшей римской шлюхой, оскверняющей своим необузданным развратом священную память великих предков, в особенности же легендарной весталки и доблестного Аппия Слепого, от лица которого Цицерон – как бы вызвав на суд его дух из царства мертвых – возглашал, обращаясь к Клодии:
«Для того ли расстроил я заключение мира с Пирром, чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?»
Цицерон ничего не упустил в пылу изобретательного красноречия. Он позаботился, чтобы претор Гней Домиций узнал Клодию как можно ближе. Он рассказал суду о ее поездках в Байи – курортный городок близ Неаполя, который со времен поздней Республики был одинаково знаменит на всю Италию целебными источниками, морскими купаниями, роскошными термами и привольным блудом, царившим там повсеместно. «Уверяю вас, – вещал Цицерон, – Байи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие поступки, с удовольствием выставляет себя напоказ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете». Он обрисовал ее дом, «где мать семейства ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности». Он дал понять, что само обвинение, исходящее из этого дома – «из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного», – есть лишь открытая демонстрация свирепой похоти «безрассудной, наглой, обозлившейся женщины». Обозлившейся, разумеется, на Марка Целия, который в какой-то момент вдруг решил разорвать с ней любовную связь. И наконец, Цицерон поведал суду о том, чего «нельзя выносить наружу» и что хорошо было известно его подзащитному, проводившему в «преступном доме» не только дни, но и ночи. По ночам Клодия совокуплялась со своим младшим братом, народным трибуном Публием Клодием. Возможно, именно это и послужило для Целия причиной разрыва с неверной любовницей, которая cum suo coniuge et fratre[12], как Цицерон называет Публия, разыгрывала перед ним изощренный спектакль: их кровосмесительное супружество Цицерон описывает (вероятно, со слов Целия) как отвратительную симуляцию болезненно-нежной братской любви. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобою вежливо, – обращается он к Клодии, – я так и заговорю: удалю этого сурового старика (то есть Аппия Слепого, от имени которого Цицерон высказывался до этого момента); итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата, который в своем роде самый изящный; уж очень он любит тебя; по какой-то странной робости и, может быть, из-за пустых ночных страхов он всегда ложился спать с тобою вместе, как малыш со старшей сестрой».
Вежливо Цицерон, конечно, не заговорил с ней. Он продолжал называть ее на протяжении всей речи, произносившейся на Форуме перед собранием почтенных мужей, свидетелей и народа, «распутницей», «развратницей», «преступнейшей женщиной».
Клодия была уничтожена.
После этого процесса, на котором Целий был оправдан по всем пунктам обвинения, она исчезла с горизонта римской жизни. В дальнейшем никаких сведений о ней не появляется в древних источниках. Предполагают даже, что удар для нее был столь сильным, что она вскоре умерла.
Но было ли это безжалостное обличение Лесбии ударом для Катулла? Ему, несомненно, были знакомы все обстоятельства судебного процесса против его близкого друга и сама «Речь в защиту Целия», обернувшаяся катастрофой для его божества. Комментаторы до сих пор не могут сойтись во мнении, какое чувство он выразил в стихотворении, обращенном к Цицерону:
О Марк Туллий! О ты, речистый самый
Из праправнуков Ромула на свете
В настоящем, прошедшем и грядущем!
Благодарность тебе с поклоном низким
Шлет Катулл, наихудший из поэтов.
Столь же самый плохой из всех поэтов,
Сколь ты лучше всех прочих адвокатов![13]
Было ли это стихотворение нечаянным откликом уязвленного сердца на обдуманную и тонко выстроенную казнь возлюбленной? Или, может быть, оно вообще не имело никакого отношения к апрельскому процессу 56 года, а было всего лишь ироническим ответом, «вызванным нападками Цицерона на новое литературное течение, к которому примыкал Катулл», как трактуют некоторые комментаторы, не учитывая, впрочем, того обстоятельства, что Катулл уже примыкал к Небесам в то время, когда Цицерон сформулировал в «Тускуланских беседах», «Ораторе» и «Письмах к Аттику» свое неудовольствие поэзией неотериков, то есть новых стихотворцев, как он их называл. Но если речь здесь все же идет о Лесбии, то что содержат в себе эти строки – одно лишь злобное ёрничество? Обиду? Или в них действительно выразилась горестная благодарность Цицерону, к которому Катулл «мог хорошо относиться за его речь „За Целия“ против изменницы Клодии», как толкуют другие комментаторы.
Ответ на эти вопросы можно найти лишь вместе с ответом на главный вопрос. Кем была Лесбия для Катулла? В самом ли деле она когда-нибудь была его любовницей?
О да, конечно, он знал о ней многое! В том числе и все то, что говорилось на суде. Это о ней и ее брате – об их кровосмесительной связи – он писал, называя Публия Клодия Лесбием, с такой мстительной желчностью:
Лесбий красавец, нет слов! И Лесбию он привлекает
Больше, чем ты, о Катулл, даже со всею родней.
Пусть он, однако, продаст, красавец, Катулла с роднею,
Если найдет хоть троих поцеловать его в рот[14].
Это ее, Лесбию, он так жадно разыскивал по «разнузданным кабакам» и находил ее там в родовитой «кабацкой своре» на коленях «паршивых кобелей», которые тешились с ней «все до одного», похваляясь своими ментулами, – Катулл же в припадке вдохновенного бешенства отвечал им буйными поношениями:
с чего бы это только лишь у вас члены?
и только вам дозволено всех малышек
перепереть, козлами посчитав прочих?
Ужели, если сотня или две сселось,
неостроумных, вместе вас, – мне две сотни
не отмужичить в одиночку сидящих?
Нет, – лучше я и вдоль и поперек стены
кабацкие снаружи испишу бранью![15]
Это о ее поцелуях он писал с такой воспаленной страстью, мечтая, чтобы Лесбия подарила ему их столько же, «сколько лежит песков сыпучих/ Под Киреною, сильфием поросшей,/ От Юпитеровой святыни знойной/ До гробницы, где Батт схоронен древний». Это на смерть ее ручного воробушка он слагал пародийно величественные эпитафии, поражавшие потом своей нежностью Марциала. Для ее забавы бросал в огонь «„Лет“ Волюзия сраные страницы». Во славу ее красоты глумился над признанными красавицами Рима, среди которых была и любовница Мамурры Амеана, не избежавшая его злобно-юродских приветствий:
Добрый день, долгоносая девчонка,
Колченогая с хрипотою в глотке,
Большерукая, с глазом, как у жабы,
С деревенским, нескладным разговором,
Казнокрада формийского подружка!
И тебя-то расславили красивой?
И тебя с нашей Лесбией сравнили?
О, бессмысленный век и бестолковый![16]
В истории этой любви было все – и безмятежно-счастливое начало, и яростная ревность, и уличения в неверности, и жестокие размолвки, и проклятия, и клятвы, и слезы, и радостные примирения. Был и окончательный разрыв. Его соотносят с самым горестным стихотворением из посвященного Лесбии цикла, который беспорядочно рассеян по «Книге Катулла Веронского», произвольно составленной из 116 произведений поэта каким-то неизвестным его земляком во времена поздней античности. По этому – 11-му – стихотворению, в котором явственно проступает дата его написания, устанавливаются хронологические рамки любовного романа, завершившегося катастрофой: