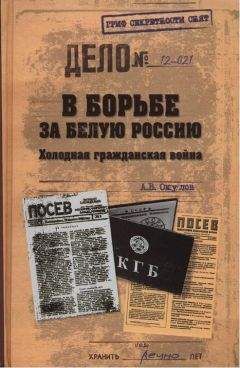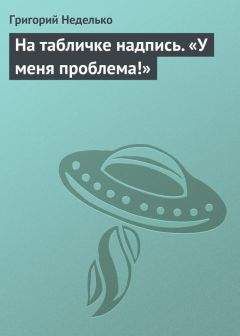Лилия Бельская - «Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии
В этой новой эпохе (на дворе 2001 г.) и в новом пейзаже лавр (аллегория славы) соседствует с заходящим солнцем (старостью), которое оставляет на героине неповторимое «родимое пятно», похожее то ли на штемпель на письме, то ли на пломбу на вагоне, то ли на тавро для скота. Но всё равно хочется быть чем-то или кем-то и в самой безысходности отыскать исход. А вдруг он там, где был в самом начале (исход евреев из Египта), в той стране, где случился Содом и где «мирру с тёрном повенчали»? И в действительности поэтесса оказывается в Израиле (там живёт её дочь), но не хочет находиться там, где спасся лишь один Лот и где распяли Христа. Ей достаточно только окна в мир: «Мне выйти всего-навсего охота / За крестовину этого окна!»
Путешествие «по волнам памяти» завершается в последнем стихотворении («Меж прошлым и грядущим»), подводящим итоги этого странствия. Переживая каждый свой день как первый и последний, «Я» живёт сегодня и сейчас, «меж заутренею и вечерней» (под Божьим присмотром), пока бьётся её «сердце-мотылёк» (пусть слепо!) между ребер, строк и псалмов, т.е. физическое существование неотделимо от духовного и творческого. Сердце «в мир наружный рвётся, будто из оков», хотя «снаружи пламенем ползущим пахнет почва». Так образы огня, пожара, пламени, вплоть до обгоревшего крыла серафима, неспаленной памяти, «остывшего угля молитв» и горящей спички и лампы, пройдя через весь цикл, доходят до финального ползучего пламени. Повторяются и мотивы поэтического творчества (строки, псалмы); «наглядный день» из вступления становится «всяким днём»; глаголы трёх времён «прошло — проходит — грядёт» преобразуются в формулу «меж прошлым и грядущим». Если в начале цикла поэтесса признавалась: «мне страшен вечности произвол», то в конце она сознаёт, что в ней самой дремлют (отсюда «навязчивые сны») отзвуки древности и не прерывается связь времен. Правда,
Сердцу невдомёк,
Что оно меж прошлым и грядущим —
Нервной вечности комок.
Таким образом, отталкиваясь от библейского мифа и дополняя его, Инна Лиснянская создаёт в своём цикле воображаемые картины как древнего, так и современного Содома, и последний ей видится греховнее первого.
Падшие ангелы в новом Содоме,
Если не воры и не убийцы, —
Сущие агнцы.
Однако поэтесса отказывается быть покорной овечкой, обречённой на заклание, и при всей своей вере в Бога спорит с ним о правомерности Его кары, ниспосланной на не такой уж грешный город и на совсем уж не повинную женщину: разве «взгляд назад может стать виной, / А одна слеза стелою стать из соли»?
2013
«Если бы…» — версии в вариации в поэзии Дмитрия Быкова
Для литературы постмодернизма характерны переосмысление и пересмотр классических традиций. Это и обыгрывание известных цитат и сентенций или знакомых сюжетов. Это и варьирование исторических событий и судеб знаменитых людей.
Большим любителем таких игр выступает в своём творчестве — и в прозе, и в стихах — Дмитрий Быков. Так, свою книгу «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады» (М.. 2006) он предваряет стихотворением-эпиграфом «Арион», в котором, опираясь на пушкинский первоисточник, предлагает иронический вариант спасения певца в наши дни: «очухался» он в Крыму, услышал призыв Аквилона проснуться и петь, ибо поэт резонирует «с любой напастью: буря, бунт, разлука», но хочет сначала подлечиться — «Поправлюсь, выпью все кокосы / И плот построю к сентябрю».
Три первых раздела сборника начинаются «Вариациями». В первой из них «смутная душа» ребёнка выбирает: быть или не быть? Она предчувствует «грядущие обиды и раны», разглядывает на киноэкране безликие тела, представляя их возможные воплощения; а в школьные годы ей может присниться менделеевская таблица («Вариация-1», 1995, 2001). Во второй вариации творится сказка о домашней кошке, «выгнанной на мороз», в сопоставлении с собственной долей в «бараке чумном» («Вариация-2», 1994, 1998). В третьей — сравниваются поэт-романтик, «ратоборец, рыцарь, первопроходец» и сегодняшний «Орфей — две тыщи», хитрец, раб и гад, текучий, как вода или ртуть, клеймённый презреньем и позором, «непростой продукт своей эпохи» и «заложник чужой вины», которому суждено испытать «пожизненную пытку» — «меж раскалённым Джезказганом и выжженной Карагандой» («Вариация-3», 1999). Возможно, Быков отталкивался от пастернаковских «Вариаций», показывая, какие кошмары и муки, какая деградация ожидают романтического певца, поэзия которого, по Пастернаку, была равновелика самой природе — «свободная стихия стиха» и природная стихия, черновик пушкинского «Пророка» и рассвет над Гангом («Вариации (1 — 6)», 1918).
Уже заглавия и зачины стихотворных произведений Д. Быкова свидетельствуют об его интересе к жанру фэнтези, к воображаемым ситуациям и предполагаемым обстоятельствам, ко всякого рода предсказаниям: «Фантазия на темы русской классики» и «Версия», «Футурологическое» и «Эсхатологическое», «Приснилась война мировая…» и «Снился мне сон, будто все вы, любимые мною…», «Когда бороться с собой устал покинутый Гумилёв…» и «Намечтал же себе Пастернак…», «Если б молодость знала и старость могла…» и «Чтонибудь следует делать со смертью…».
Простейшим случаем поэтической фантазии является переработка чужих творений. И Быков пишет продолжение крыловской басни «Стрекоза и Муравей»: «Да, подлый муравей, пойду и попляшу <…> / Смотри, уродина, на мой прощальный танец». Такие, как она, не годны к работе и борьбе, умеют лишь просить приюта и гордо «подыхать». Но, оказавшись после смерти в раю, Муравей будет завидовать Стрекозе и просится в её «кружок», а она ответит: «Дружок! Пойди-ка поработай!» («Басня», 2002).
По-иному поступает поэт со сказкой Андерсена «Свинопас» в «Стихах о принцессе и свинопасе», намечая три пути супружеской жизни этой пары: не вынеся низкого быта и свиного духа мужа-пьяницы (настоящего, а не переодетого свинопаса), принцесса вернётся к принцу; свинопас разбогатеет и выбьется в люди, а его жена станет служить у него приказчиком; принцесса постепенно освинеет и будет хрюкать в ответ на почёсывания муженька. Читатель волен выбрать любой вариант.
А что если вернуть в рай Адама с Евой? Ну, не насовсем, а в отпуск. Что он почувствует? Как себя поведёт? Вот он гуляет по садам, пробует фрукты, может надкусить даже яблоко познания, припоминает забытые названия и слова — и говорит с Богом не только о скотине. А Ева спит, отдыхая от родов. Потом они возвращаются обратно — убирать дом, готовиться к холодам, пахать и сеять, таскать тяжести и ставить заплатки на одежду. «Но знать, что где-то есть. / Всё там же. Где-нибудь. / Меж Тигром и Ефратом» («Адам вернётся в рай», 1994).
Можно пофантазировать на темы русской литературы, вообразить себя влюблённым в соседскую барышню, видя в её отце второго Троекурова, и уговаривать её на побег из родительского дома и на венчание («Фантазия на темы русской классики»). А можно помечтать о семейном счастье литературных героев: Печорин женится на Вере, Грушницкий на Мери. Увы! «судьба тяжела, как свобода, беспомощна, как инвалид», и «любовь переходной эпохи бежит от кольца и венца». Остаётся только молиться, чтобы время вошло в свою колею, люди разбились на пары, и «Левин, смиряя гордыню свою, женился на Китти».
О Боже, мы всё бы снесли,
Когда бы на Севере диком
Прекрасные пальмы росли!
Но Печорин едет в Персию умирать, а мы грустим о своих половинках, «покамест на наших руинах не вырастет новый Толстой» («Семейное счастье», 1995). Перемешав лермонтовских и толстовских персонажей, автор задумывается и о своём одиночестве, полушутливо горюя о невозможности сочетать несочетаемое: «Когда бы меж листьев чинары / Укрылся дубовый листок».
Называя себя «всеядным», «амбивалентным» и даже «пустотой», которая вбирает в себя всё («Кольцо»), поэт легко представляет себя в разных эпохах и обличьях: «Я в Риме был бы раб, бесправен и раздет», «Представим, что мы в этом замке живём», «Я знал, что меня приведут на тот окончательный суд», «Я сошёл бы московским Орфеем в кольцевой, концентрический ад», «Когда бы я был царь царей (А не запуганный еврей)», «Хотел бы я любви такой Ассоли». Он готов сыграть и роль обманутого мужа, сидящего в кустах («Баллада о кустах»), или шута, живущего нараспашку, и потратить годы «на блуд, на труд, на брак, на бред» («Шестая баллада»), и в душе его уживаются две личины, словно он «ангел ада» («Четвёртая баллада»).
Поэтическое кредо Дмитрия Быкова — «О двойственность! О адский дар поэта / За тем и этим видеть правоту…» («Утреннее размышление о Божием Величестве»). К примеру, в драматической балладе «Пьеса» сталкиваются суждения четырёх персонажей — мужа, жены, их друга и автора, и каждый убеждён в своей правоте, но роковым образом просчитывается, так как чего-то не учитывает в своих рассуждениях и выводах.