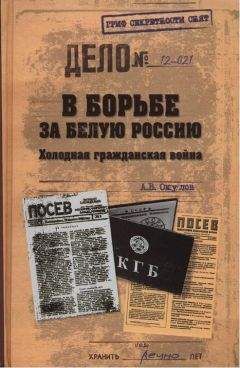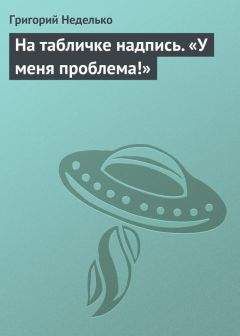Лилия Бельская - «Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии
В последних стихах цикла автор возвращается к кольцевым формам, продолжая экспериментировать. Наряду с повторением концовочных, кольцевых и «блуждающих» строк Есенин обращается не столько к синтаксическим параллелям (разветвлённую систему которых мы находим в поэзии Фета), сколько к лексическим, создавая единое семантическое, а вместе с тем и мелодическое поле. Вот как, к примеру, тематические и словесные повторы образуют целостное единство в XII стихотворении «Руки милой — пара лебедей…». Смысловое его ядро — две семы (семантические единицы): любовь и песня, объединённые в одно целое («песнь любви»), ибо поэзия озаряет любовь поэтичностью, а любовь одаряет поэзию нежностью («Нежностью пропитанное слово»). Схематично развитие этого мотива можно представить следующим образом: 1-ая строфа — все поют песни любви; 2 — и я пел и пою, поэтому нежностью дышат стихи; 3 — можно душу вылюбить до дна, но Восток не согреет сердце теплом; 4 — ласки милой или песенная отвага; 5 — песни слагают поразному, «что приятно уху, что для глаза»; 6 — пел бы я нежнее, если бы не погубила меня любовь. Заключительная строфа даёт, казалось бы, неожиданный поворот, разрушая гармонию и противопоставляя любовь и творчество. Однако их разъединение происходит постепенно, и дисгармоничность накапливается исподволь — в разделительных «или…или», «что…что», в предостерегающих «если», в ощущении чуждости чужеземного мира своей поэзии («Только тегеранская луна / Не согреет песни теплотою»). Эту наметившуюся антитезу подчёркивает и редкая у Есенина ритмическая форма ХПХПХ, сталкивая «нежностью пропитанное слово» с «тегеранской луной». Весь текст пронизывают лексические переклички: «руки милой» — «ласки милой Шаги», «золото волос» — «глыба золотая», «песню поют» — «слагает песнь», «нежность» — «нежнее», вплоть до частичного композиционного кольца с повтором стержневых слов «пара лебедей» и «песня» и рифмы «лебедей — людей», подтверждающей общезначимую поэтическую идею стихотворения.
Сложная система повторов, сплетающихся в затейливые узоры, наряду с афоризмами и сентенциями, воспринимаются как дань восточной витиеватости и красноречию («Поцелуй названья не имеет, / Поцелуй не надпись на гробах», «Тех, которым ничего не надо, / Только можно в мире пожалеть», «Примирись лишь в сердце со врагом — / И тебя блаженством ошафранит»), но неожиданно сочетаются с просторечными выражениями и оборотами, придающими речи разговорную (русскую) окраску: «Расскажи мне что-нибудь такое», «памятью простыв», «то, что сроду не пел Хаям», «пел и я когда-то далеко», «значит, он вовек не из Шираза».
Возможно, «Персидские мотивы» были задуманы как русско-восточный вариант западно-европейского венка сонетов (см. не вошедшее в цикл XVI стихотворение «Море голосов воробьиных»), но это скорее намеренное отталкивание от канонического жанра с его жёсткой и строгой организацией. Есенинский цикл — иная, тоже посвоему чёткая и стройная целостная структура, характеризуемая сюжетно-композиционным единством и идейно-художественной завершённостью.
1980
«Между прошлым и грядущим»
(цикл И. Лиснянской «В пригороде Содома»)
Нет ничего свежее древних развалин,
Нет ничего древнее свежих руин.
Все мы знаем, что между прошлым и будущим находится настоящее, в котором мы живём в данный момент. Наша память хранит первое, фантазии уносят нас во второе, и в нашем сознании сосуществуют факты и вымысел, история и мифы. Мы невольно сравниваем сегодняшний день с тем, что было когда-то, и убеждаемся, что «памяти опыт, как всякий опыт, печален».
Об этом размышляет Инна Лиснянская в своём поэтическом цикле «В пригороде Содома» (2001), название которого отсылает нас к библейской легенде об ужасной судьбе города Содома (и Гоморры), уничтоженного Богом за развращённость его жителей. Как сказано в книге «Бытие» (гл. 19), там нашёлся лишь один праведник — Лот, который приютил двух ангелов, явившихся в Содом под видом странников, и не выдал их разъярённой толпе. Его с женой и дочерьми ангелы вывели из города, предупредив, чтобы они не оглядывались назад. Но жена Лота не послушалась и была превращена в соляной столп. Цикл И. Лиснянской, состоящий из 14 стихотворений, опирается на этот миф и вводит его в современную реальность, включающую в себя и жизнь автора, т.е миф предстаёт обновленным, осовремененным («свежим») и тесно связанным с авторскими переживаниями и раздумьями. А лирический сюжет движется как бы по спирали — от настоящего к прошлому и обратно, то пересекаясь и переплетаясь, то расходясь.
Первое стихотворение «Птичья почта» — экспозиция, определяющая место и время действия: дачный посёлок («пригород»), лес, деревья (берёзы, осины), перелётные птицы, летние дни и ночи. По настрою это медитация и благодарственная молитва: «Только подумай, за что мне такое счастье — / Угол иметь в лесу и письменный стол» (первые строки) и «Господи Боже, спасибо Тебе за то, что / Угол мне дал в лесу и письменный пень» (последние строки). «Пень» вместо первоначального стола несколько снижает молитвенный пафос, особенно если вспомнить цветаевскую хвалу ему как символу творческого труда. В этом зачине намечаются основные мотивы всего цикла: время (времена года) — и вечность, история и современность («воспеваю только наглядный день»), опыт и память с парадоксальными формулами о свежести древних развалин и древности свежих руин или «Больше от следствий не жду никаких причин»; природа и творчество (с пушкинским отголоском — «серафический глагол»). Если Тютчев утверждал, что «природа знать не знает о былом» и что «ей чужды наши горести и беды», то Лиснянская выстраивает другую систему взаимоотношений природы, человека и истории.
Вряд ли могло по истории сдать экзамен
Дерево, даже пригодное для икон.
По-настоящему прошлому верен камень,
В память свою как человек влюблён.
После патетического и философского вступления «память бедная» переносит нас из «наглядного дня» в библейские времена — «При содомских воротах» (2), и возникает центральный образ цикла — «многогрешный Содом», который автор не в силах ни разлюбить, ни забыть. Начинается стихотворение с приглашения войти в ворота: «Не минуй мои ворота, заходи, я накормлю, / Даже водкой (отнюдь не библейский напиток) напою, / даже песенку спою…». А заканчивается отказом от приглашения: «Нет, минуй мои ворота, не заглядывай в мой дом…» (композиционное кольцо, как и во вступлении), ибо пребывание в Содоме — это «навязчивый сон» больного разума или воображения. А вообразила себя лирическая героиня виноградной лозой, росшей у содомских ворот. Она и «над ангелом вилась, и пред дьяволом стелилась», но «Господняя гроза» её не уничтожила, она спаслась и живёт многие века, тоскуя по Содому, где «сгорела вся родня». И как жива «одинокая тоска» по нему, так и «след от праведника глубже, чем от гневного огня». А Содом стоит на месте и оброс не диким мхом (как в русской песне, утёс), а железным да стеклом из-под вина, как после туристов. Не значит ли это, что он вечен?
Третье стихотворение «Театр одного актёра» возвращает нас в дачный пригород, но теперь слышны не только птичьи голоса, но и голос электрички, и действие происходит в пригородном поезде, где перемешались имущие и убогие, просители и дарители, где бард притворяется безногим, где, «порывая с ремеслом, нищенство становится искусством», и современный Содом «горит без пламени». Вспоминаются пушкинские «посох и сума», но как разобрать, «что есть почва, что — сума»? И «театр одного актёра» вырастает до «театра одного народа» и вышибет из глаз «не слезу уже, а едкий натр». В отличие от Пастернака («На ранних поездах»), Лиснянская не испытывает к пассажирам ни уважения, ни обожания («Превозмогая обожанье, / Я наблюдал, боготворя»), а горечь. И не ощущает своей причастности к этому «одного народа театру». Она не участник театрального действа, а сторонний наблюдатель.
Неужели я — сторонний зритель,
И меж птиц, поющих задарма,
Не схожу ни с ритма, ни с ума?
Не правда ли, поразительно это разрушение устойчивого фразеологизма «сойти с ума»? А к какому народу обращено следующее стихотворение «Карнавал» (4)? Казалось бы, к содомскому: «Веселись, содомский народ…». Но всё здесь амбивалентно. С одной стороны, настоящее время («Начинается хоровод») и упоминание танца маленьких лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро» (его музыка ассоциировалась в СССР с похоронами генсеков), салюты в небе и серпантин, напоминающий «наркотический лепесток». С другой стороны, скоморошьи маски и шатры. Зазывала призывает «безоглядный люд» на карнавал: веселись, «в трубы дуй, в барабаны бей», надень маски (4 раза повторяется повелительный глагол «веселись» и 3 раза — «разойдись»). Но вопрос: «Что ещё остаётся нам?» и заявление: «Будет память на чёрный день!» да ещё странные танцы однополых пар (баба с бабой, мужик с мужиком) намекают на то, что это «пир во время чумы» и что пора этому «безоглядному люду» остановиться, оглянуться.