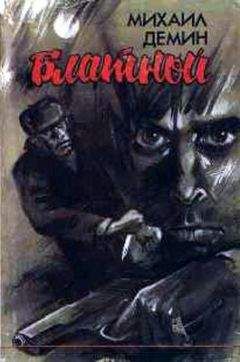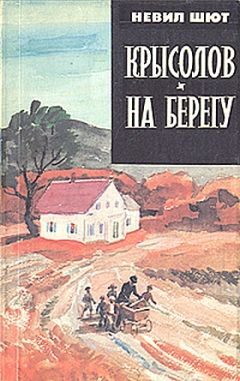Абдижамил Нурпеисов - Долг
— Ну, па-ап... Ну оставь меня!
— Родненькая моя. Доченька... Цыпленочок ты мой.
— Пусти, па-ап, опаздываю.
— Ах ты, ученица моя прилежная... Ладно-ладно, отпущу... не сердись, птенчик мой... Ты разве не в первую смену учишься?
— Это, папа, в прошлом году было, когда я в первом классе училась.
— Ах да... ведь нынче ты уже во втором.
— Конечно, во втором, а ты разве не знаешь?
— Что он, кроме рыбы, знает? Иди, доченька... Опаздываешь.
Дочка, повторяя мамину досаду, дернула острым плечиком, все еще. норовя вырваться из рук отца.
— Ну, па-а-па... — взмолилась дочка. И недовольно отвернулась, съежилась, прижав к себе портфельчик. Отчего-то жалость пронзила сердце. Он сам распахнул перед дочкой дверь, вышел вместе. Обрадованная, она выпорхнула из рук, точно птенец из гнезда. Добежала до угла дома, на мгновение оглянулась назад, на него, застывшего у порога, сутулого, заросшего щетиной мужчину с грустными от усталости глазами. И он сразу рассиял лицом: «Птенчик мой! Доченька родненькая...» В глазах защипало, в горле застрял сладостный комок. Смущенный своим странным состоянием, сам не свой, побрел назад, в дом. Бакизат собиралась выходить. Он, раскинув руки, встал у двери, преградил ей путь.
С тобой сегодня, гляжу, никакого сладу нет.
— Ни лада, ни склада от нас не жди. Как только еще не рехнулись там...
Она впервые оглядела мужа, запущенного, будто чем подавленного.
— Что же не остался там зимовать? Выходит, не совсем еще забыл дорогу к дому...
— Батиш, прости... Не мог бросить людей...
— А как нас оставлять, так душа не болит...
— Ну, дорогая, что с тобой? И так тошно, а ты еще...
— А нам, думаешь, легко?
— Знаю: нелегко. Зато знаешь, Батиш, с удачей на этот раз вернулись. Богатый был улов!
— Поздравляю! Рыба есть — зачем тебе жена, дети?!
Он потупился, потемнел лицом. Потом сказал осевшим голосом:
— Что ты, Батиш! Уж кто-кто, а ты-то должна бы знать участь рыбаков. Какая у них, бедолаг, сейчас жизнь?
— Сочувствую. Только я тут при чем?
— Конечно, ты ни при чем... Но хотя бы войди в их положение...
— Ну, хорошо. Допустим, вошла. Ну и что?
— Тогда и меня поймешь. И... простишь.
— Больше ничего не скажешь?
А что тут скажешь? Уж и так все выложил как есть, и только еще неизвестно, что из всего этого дошло, а что не дошло до нее.
— Бакизат, постой, пожалуйста. Что ты в самом деле... Куда спешишь?
— Дело, значит...
— Останься, Батиш, прошу...
— А работа? Что я скажу директору? Ученикам? Что муженек припожаловал наконец?..
Держалась она спокойно, но по лицу было видно, что напряженно думала о чем-то совсем другом, и при этом то и дело нетерпеливо косилась на стенные часы в прихожей.
— Уезжать, наверное, никуда не собираешься? Может... попозже и поговорим?
Он пристально посмотрел на жену, старательно отводившую почему-то глаза.
— Сегодня у меня напряженный день. Поздно приду. А ты поставь себе чай. Сготовь там что-нибудь.
Бакизат, метнув взор в зеркало, мгновенно оглядела себя с ног до головы. Куда торопится? Может, она все это назло делает? Но ты ведь не чувствовал за собой вины; вины вроде нет, а ощущение виноватости все же есть. Тем более, коли за время супружеской жизни не приучил ее к повиновению, то повинуйся сам. Чего стал? Кайся, проси у нее прощения.
— Батиш, родная...
Бакизат опять посмотрела на часы. «Куда она все же спешит?» Ты несмело коснулся ее плеча. Она, вопреки ожиданию, не стряхнула с плеча твою руку. И даже, когда ты притянул ее к себе, она не сопротивлялась, наоборот, покорно прильнула к тебе, как бы отдаваясь воле мужа. Тут и к тебе вернулось спокойствие и уверенность. Что ж... все складывается как нельзя лучше. С дочкой свиделся. С женой поладил. Вот она, истосковавшаяся по мужчине в доме, наконец-то дождалась бродягу, скитальца-мужа, безропотно замерла, вся притихшая и покорная. И ты, неуклюже склоняясь над ней, дотянулся было до ее губ — и тут взгляд твой невзначай уткнулся в зеркало. И там кто-то грубый, обметанный щетиной, неуклюже склонился над молодой женщиной, бесстрастно и отчужденно подставившей свое потухшее лицо, покорившейся супружеской доле... И, едва коснувшись губами ее, ты резко отстранился. Ты не знал, заметила это Бакизат или нет. Только видел, как она мгновенно взяла себя в руки. Затем слышал ее вроде бы обрадованные и поспешно брошенные слова: «Ну и хорошо... потом поговорим, ладно?» Еще слышал звук стремительно удаляющихся ее шагов. Очнулся лишь тогда, когда она, хлопнув дверью, вышла. И только теперь ощутил, как вымотался за эту поездку. Не проходя дальше, обессиленно опустился на что-то в прихожей и обеими руками обхватил голову. И зажмурился, застонал, как от боли, и стонал, поскуливая по-собачьи, не подавляя, не обрывая звука, рвавшегося из груди. В тихом, безлюдном доме этот стон был, наверное, диким. Ты чувствовал, как в тебе нарастает отчуждение, проскальзывает какой-то холодок к семье, к собственному очагу. Будь твоя воля, ты оставался бы там, среди рыбаков, разделял бы с ними все мытарства и невзгоды. Пусть им никогда не было сладко, зимой и летом мыкаются вдали от дома, от семьи, пусть нередко уезжают к дальним озерам Байтах, Балхаш и даже на Ала-Куль у самой границы с Китаем, и все же как бы там ни было — у них была работа. Пусть и там, в тех далеких озерах, куда забрасывала всегда их немилостивая судьба, не могли они похвалиться богатым уловом, удачей, крепкие, как на подбор, выносливые мужчины, вооружась неисчерпаемым терпением, неизбывной надеждой, вставали изо дня в день спозаранок, одевались на ходу, заморив второпях червячка, невзирая на все беды-напасти, не ропща на проклятую рыбацкую долю, с упорством вновь и вновь отправлялись в море. И ты тоже вместе с ними. Вместе с ними не оставлял надежды. Вместе с ними уповал на удачу. И это вроде бы придавало твоей жизни извечный, надежный смысл.
Вот, приехал в аул... но почему предчувствие желанной удачи и надежды — все, что стало смыслом твоей жизни, — тотчас меркнет, гаснет? Выйдешь на улицу — непременно сталкиваешься с молодыми парнями, которые, сомлев от безделья, слоняются как неприкаянные по аулу. Глядя на них, обливаешься ты внезапно краской стыда, будто не кто другой, а ты, председатель, виноват в этом их бессмысленном прозябанье.
Так и сидел ты с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону, все сильнее стискивал руками раскалывающуюся голову. Упругими толчками пульсировала, билась, точно пойманная, жилка под пальцами. Вспомнил вдруг мать. Видно, нет ее в доме. Ах, как нестерпимо разболелась голова! Окажись ты сейчас там, на том стылом берегу моря, в той облупившейся рыбачьей хибаре, — рухнул бы, не раздумывая, прямо на пол, забылся бы в крепком сне. Живя у рыбаков, ты спал где придется, как придется, не заботясь о том, кто спит рядом, и не помнил, что совал под голову и чем укрывался. Вырабатывался так, что уже за ужином тебя неудержимо клонило в сон. И тогда, не дожидаясь, пока свернут дастархан, засыпал ты, бывало, прямо на месте. Недосуг было тебе думать о том, чтобы изголовье было высоким, подстилка мягкой, а одеяло теплым. Проведя, считай, половину отпущенного тебе зимнего срока среди рыбаков, и сам рыбак, привыкший к непритязательной скитальческой жизни вдали от семьи и дома, ты с удовольствием растянулся бы сейчас вот здесь, в прихожей на полу. Взгляд твой упал на гладкий, вылизанный и выдраенный пол, горькая усмешка невольно покривила твои губы.
— Эй, сын мой...
Дрожь пробежала по спине. Ты рванулся к сухонькой смуглой старушке, неслышно вошедшей в дом, старческими шажками приблизившейся к тебе, и обнял ее. И старая мать, точно старая верблюдица, истосковавшаяся по своему непутевому верблюжонку, на миг обмякла от нахлынувшей нежности:
— Когда приехал?
— Только что, апа...
А я с утра в хлеву вожусь. Бурая верблюдица совсем от рук отбилась. Беда, сосцы затвердели. Кое-как нацедила, чай забелить... Ну, рассказывай, все вернулись?
— Нет... я один, другие на днях вернутся.
— Как бездомные, бедняги. Одичали небось?.. Да и ты похож на чучело. Сегодня банный день. Сходи, отмойся.
— Апа-а... — невольно вырвалось у тебя, и ты порывисто, как в детстве, прижался к груди маленькой старушки. Но она сразу посуровела лицом, резко оттолкнула тебя:
— Не смей! Такой верзила, а льнешь к матери, как сосунок. Или хочешь, чтобы вместе с тобой и я нюни распустила?!
— Ну, прости... апа.
— Прощаю, конечно. Ты у меня ведь один. Дал бы бог хотя бы двоих — я еще, может, выбрала бы лучшего.
Ты не стал ей перечить, только по-ребячьи радостно посмеивался.
— У, негодный! Надо же, весь в отца пошел. Бывало, чуть солнышко припечет, он тоже, бедняжка, все норовил спрятать голову в мою бабью тень...
В те тяжелые годы, когда мужчины, все как один встав под ружье, воевали там, на западе, не эта ли худенькая старушка взвалила на свои несильные женские плечи непомерную тяжесть военного тыла? Не она ли четыре долгих года рыбачила, вкалывала по-мужицки, мыкалась с одними бабами да детьми, зиму и лето напролет пропадая в море? Однажды, в лютую зиму сорок второго, ее даже унесло на льдине в открытое море. Тогда ты был еще сосунком, но помнишь, как люди всего правого побережья переживали и тревожились за нее, как утром следующего дня гонимая черной неистовой бурей Приаралья льдина прибилась наконец к острову Барса-Кельмес и ее нашли там всю обмороженную, едва живую... Ты знал еще много преданий и легенд о ее смелых предках. Если верить этим поныне ходящим из уст в уста преданиям, то некогда джигиты в роду матери — Тлеу-Кабак отличались редким бесстрашием, а девушки — особой гордостью степнячек. Говорят, они в боях не уступали в храбрости даже самым отчаянным джигитам. По преданию, прабабушка матери была будто наделена недюжинной силой. Ей будто ничего не стоило без чьей-либо помощи, половчее ухватившись за хвост или за ноги, вытащить какого-нибудь телка, упавшего в колодец. После того как она пала в бою, защищая кочевье, благодарные потомки сложили о ее подвиге немало песен и легенд. Мать в вечерних сумерках, когда в доме не было посторонних, бывало, сидя у жаркого очага, пела в полный голос о подвиге прабабушки. Ты в детстве знал наизусть этот сказ. Он начинался с того, что зима в том неладном году выпала суровая, скот отощал и обессилел, и тогда джигиты славного рода Тлеу-Кабак, пораньше сняв аул с зимовья, направили свой путь с голодного побережья на просторы джайляу. Еще не совсем сошли снега. Еще притаились, по-зимнему белея в оврагах, осевшие холодные сугробы. И тяжело тащились верблюды, увязая в грязи, надсадно сопя, когда сбоку из засады с гиком наскочил подстерегающий их враг... Дальше песня гордо восхваляла прабабушку матери, расписывая ее богом данную красу, обаяние и храбрость; пусть имя ее и святая память о ней не потускнеют в жизни потомков! Она в тот роковой час будто ехала во главе кочевья на беломордой пышношерстной верблюдице и кормила грудью месячного младенца. Протяжно и скорбно лились горестные строки песни, чем дальше, тем больше щемя и раня сердца слушателей, будто камчой хлестали по самым уязвимым, незащищенным местам их сострадательных душ, не давая забыть о тернистых путях предков... И вот увидела прабабушка матери, что силы сражающихся неравны, что враг теснит и теснит застигнутую врасплох горсточку джигитов рыбачьего аула, и еще увидела она, как в этот бедственный час, наспех вооружившись чем попало, на подмогу братьям и мужьям бесстрашно ринулись в бой девушки и женщины славного рода Тлеу-Кабак. И тут прабабушка матери будто, отняв ребенка от груди, торопливо сунула его какой-то старушке. И быстро, кое-как уложив толстые косы, торопливо надев мужскую шапку, подпоясав веревкой чапан, она, как пелось, стремительно вскочила на неоседланного коня и, вырвав из рук какого-то мужчины, трусливо кинувшегося с поля боя, крепкий джидовый кол, неустрашимо вступила в бой. И в этой отчаянной схватке, где она билась разъяренной львицей, с каждым ее ударом валился с коня разбойник-удалец, с каждым ее ударом захлебывался кровью враг... Но вот в горячке схватки будто распустились и упали вдруг на плечи ее тяжелые косы, впопыхах спрятанные под поярковую шапку. И враги, говорят, чуть не задохнулись от злобы и срама, узнав в этом ладно скроенном и рослом светлолицем юном батыре с джидовым колом молодую женщину. И, взъярившись, два батыра-разбойиика бросились, говорят, одновременно на нее. И два отточенных разбойничьих копья одновременно вонзились в материнскую кормящую грудь храброй воительницы, да будет священно ее имя во веки веков!.. Что ж, может, и в самом деле это правда. Наверняка правда. И эта согбенная немощная старушка, которая сейчас укоризненно смотрит, недовольная своим единственным сыном, тоже немало ведь унаследовала от гордых девушек из ее храброго рода Тлеу-Кабак. Только бедняжка нынче уже не та, что прежде, и гордость ее состарилась, стала помягче, отходчивей.