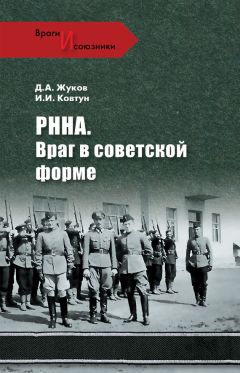Диана Виньковецкая - Единицы времени
Вот это и зовется «мастерство»: способность не страшиться процедуры небытия — как формы своего отсутствия, списав его с натуры.
Говоря словами Бродского, «трагедийная интонация всегда автобиографична». После трагического завершения Яшиной жизни долгое время я все слышала через черный гул в голове. Позвонил Иосиф. У него умер отец. Иосиф что‑то говорил, что я должна выживать в любой ситуации, не строить из себя жертву. Самое ценное произведение — это твоя жизнь. Я запомнила: «Ты — метафизическая единица».
И «метафизическая единица» начала новый этап в своей жизни. уже без Якова. Надо сказать, что я никогда, ни при каких обстоятельствах из себя жертву не строила. И мне было больно не так за себя, как за Якова. Трагедия не в немыслимости существования без него, а в том, что «жизнь без нас, дорогая, мыслима».
На дне рождения Юза Алешковского в их с Ириной американском таунхаузе, стоящем на берегу ручья долины Коннектикут, выпивали и восхищались изумительными кушаньями, приготовленными самим Юзом. Юз большой мастер на кулинарные изыски. Гасконский гусь появился на столе в обрамлении черносливов, колбас, яблок и всякой всячины. Приступили к гусю, и тут раздался еще один поздравительный звонок. Юз берет трубку, улыбается, что‑то там говорят приятное. и вдруг: «Идите на х.. (Что такое?) Напиши на автоответчике, а то все слишком любят тебя на..ывать, пользуются твоей добротой». Закончив разговор, Юз сообщает, что звонил Иосиф, поздравлял, но «его за..ли: рецензии, письма, звонки. просьбы. Вот я ему и посоветовал сделать такую запись на автоответчике». Юз умеет, как всем известно, остро выражаться.
После гуся кто‑то упомянул мою книжку «Америка.» в каком‑то позитивном контексте. Спросили мнение Юза, он стал бранить мой стиль, я — обороняться: мол, «пишу кружевами». Юз быстро парировал: «не кружевами, а х..ми». Борис Несневич, фотограф из Нью–Йорка, возразил Юзу, что «в некой неуклюжести и шероховатости есть преимущества. Иначе все получает одинаковую окраску, как газетный текст. Такая инфляция слов. И так кругом жаргон «Правды». Может, не гладко, но зато без обмана. И есть непредсказуемость.» Хотя первая моя книжечка Юзу понравилась, но к другим он снисходительно не относился и всячески дразнил меня за писательские попытки: «Скажи Володе Леви, чтоб он тебя загипнотизировал, чтоб больше ты не писала». Меня это огорчало. Конечно, каждое произведение можно толковать по–разному — и проблему языка, и психологию, и еще невесть что.
Я решила послать Иосифу свою «Америку» с записочкой, что, мол, не опозорила ли я свою «уникальность» этим писанием? С трепетом ожидала ответа, считая не дни, а минуты.
«Ай да Дина, Ваша хевра удостоилась шедевра», — ответил Иосиф.
Так элегантно не писал обо мне никто. Это была одна из моих больших радостей. Не знаю, стала бы я продолжать свои писания, если бы не было поддержки публики и мнений тех людей, которые меня вдохновляют. И если для Иосифа было безразлично, будут хвалить или отрицать его искусство, приговор его инстинкта — писать, то мне нужны были костыли, поддержка. Это скорей вопрос: какие стимулы были более важными для меня — внутренние или внешние? А может, эти «стимулы» не допускают разделения? Ведь проблемы самоусовершенствования неотделимы от проблем, связанных с общением между людьми. Теоретически одно, а как тебя касается — так другая окраска.
С еще большим трепетом я позвонила Иосифу с благодарностью за отзыв, хотя и боялась нарваться на предложенный ему Юзом автоответ. И в том последнем телефонном разговоре (наш разговор проходил за несколько дней до его смерти) Иосиф говорил мне вдохновляющие слова: «Валяйте! У вас получается.» Ему понравилась композиция моей «Америки» и. «движения души». Иосиф обещал меня поддерживать самым конкретным образом, писать об этом неловко, скажу только, что после такого одобрения у меня «душа запела» и я насовсем ушла в писатели. Сейчас испытываю от писания наслаждение и уже меньше впадаю в зависимость от мнений публики, пожалуй, больше уже завишу от себя самой и языка. И еще Иосиф тогда сказал: «Чем лучше человек пишет, тем больше он нуждается в редакторе. Мяу».
Наш старший сын Илья учился в Уеслаян университете в Миддлтауне, где жили Алешковские. Илья часто у них бывал, беседовал, опекал их сына Даничку и любил Юзовы пельмени. Илья не разделял привезенных нами злых взглядов на либеральные американские тенденции, хотя «левым» совсем не был — он видел, как его отца уводили на допрос. Он посмеивался над феминистическими выкрутасами в университете — придуманным девчонками туалетом, названным «пипол», демонстрациями студентов против каких–то неправильных банков, корпораций. (Кстати, потом многие из протестующих, за двумя- тремя исключениями, сами стали успешными членами этих банковско–корпоративных сект, наследуя отцовские пропуска, у Ильи же при попытке войти в эти здания в руках оставались ручки от дверей и диплом с отличием.) Юз решительно изливал свои антилиберальные воззрения и в частных беседах, и перед студентами, пытаясь истолковать истоки нашей неприязни к болтовне во имя народа. Когда Илья переводил выступления Юза, то оговаривал, что он — только переводчик; резкие, острые суждения Юза, в которых самыми нейтральными словами было «вы ничего не понимаете», у Илюши большой симпатии не вызывали. От манеры разговора Бродского с аудиторией, однажды выступавшего перед студентами Уеслаяна, Илюша тоже не пришел в восторг: «Как можно говорить с таким презрением к либеральным, демократическим людям, ведь в Америке многое достигнуто только благодаря противостоянию отдельных людей социуму. А нервный ответ Бродского девчонке, что ему нет никакого дела до людей в Южной Африке, — просто фашистский. Папа так бы себя не вел». — «И где оказался наш папа? — жестко возразила я. — Один интерес к высшим человеческим ценностям и желание во всех видеть образ Божий не помогает в этой жизни, и нужно уметь приютить в себе «демона сопротивления»». — «Но это не значит, что нужно хамить». Но это значит, Илюша, что нужно иметь в себе что‑то, чтобы видеть зло.
Еще в Вирджинии по приезде в Америку я смутно чувствовала отдельные «писательские» порывы. От отчаянья, от внезапного одиночества, от желания выразить свое душевное состояние я писала письма в покинутое отечество. Отцу Александру Меню мои письма нравились, и он, можно сказать, первый вдохновил меня на писательство. В какой- то момент Яков тоже неожиданно сказал мне: «Начни писать для облегчения своего состояния. Смотри на соседей, Америку, наблюдай и записывай свое отношение к окружающему миру. Но всегда пиши только с любовью, если нет любви — не берись. Любовь — это отношение конечного к бесконечному».
А у меня — двое маленьких детей, маленький английский и первая, тоже маленькая, но работа в Америке. И никакой любви к бесконечному, а только к конечному — когда можно будет отдохнуть от кувырканий Данички и Илюшеньки. Я, естественно, отождествляла себя с текущим временем, а не с бесконечностью. «Видеть красоту в жизни, в отношениях — это дар писателя», — продолжал Яков. «Неужели у меня такое завелось?» — удивилась я.
«Однако, чтобы писать, ты должна учиться писать, учиться передавать оттенки чувств, мыслей, точность смысла». — «Как? Неужели можно научиться?» — «Начни читать Гоголя, Достоевского. стихи. На невспаханном поле растут только сорняки, Диночка!»
А когда читать? Двое детей и три английских слова. Раскрытые учебники английского и такое медленное продвижение в сторону освоения нового языка, что, видно, хочу оставаться наедине со своим, родным, русским. Яков, встревоженный моей тупостью, придумывал разные способы изучения: запоминать песни, стихи, поговорки, разработал специальную схему английского, как в английском языке все связано; схема его у меня до сих пор есть, а вот знания языка, какой был у него, так и нет.
«Придавай словам и фактам теплоту и свет, чтоб скучно не было» — этот абстрактный совет я могу повторить несколько раз, но как воплотить его в произведении? Как? Все время страхи, сомнения, и где взять свет и теплоту?
«Твои письма нравятся адресатам, так и продолжай знакомить и сталкивать слова, которые не стояли рядом. Отстраняйся от клише, парализующих мысль». И я отстраняюсь, отстраняюсь и отстраняюсь, но как ни посмотрю, а избитые истины тут как тут, ходят по пятам, вернее, мои мысли ходят по их проторенным дорожкам.
И как не восхититься теми людьми, мысли и слова которых поднимаются над обыденностью и бывают там, где никто никогда не бывал. И как туда попасть? Если верить Иосифу, то язык выталкивает поэта, вот его, например. Подожду, может, кто и меня вытолкнет? Только вопрос: куда?
«Не зацикливайся на своих эмоциях, — заставая меня сидящей в слезах над рукописью, говорил Яков. — Опять о любви пишешь? Не скрывай свои чувства, но и не выплескивай все подряд». Конечно, эмоции уводят рассуждения в самую непредсказуемую сторону, что определяют словами «вон куда его занесло». И отстраненность, нейтральность, недоговоренность, немногословность — это то, к чему стремлюсь. Между пером и эмоциями — мучительная душевная раздвоенность. И хотя над рукописью о любви теперь плачу меньше, стараюсь фокусировать сознание, но эмоции все равно затаскивают, увлекают в самые дремучие дебри всезнания и абсурда, откуда я пытаюсь выкарабкиваться, связывать их пером. Так себя иногда становится жалко — бессмысленность и конечность всего, что слезы заливают всю поверхность, и ничего не видно из‑за слез, и уже не ручьи, а реки страниц выносят тебя в океан всеобщего растворения. И как всю эту океаническую стихию эмоций преобразовать в форму, в стихи, в Рим? «Природа тот же Рим и отразилась в нем».