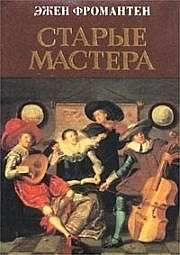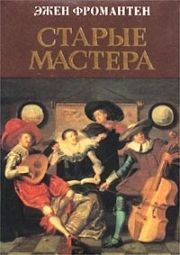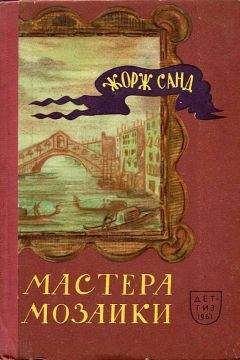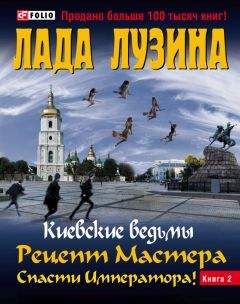Дэвид Уоллес - Линч не теряет голову
Кое-что из критики ad hominem безобидно, и режиссер сам в какой-то степени наслаждается своим образом «Мастер Безумия»/«Царь Странного», для примера вспомните, как Линч смотрит в разные стороны на обложке Time. Однако заявление, что фильмы Линча совсем не осуждают отвратительность/зло/извращение, и в них даже интересно на это смотреть, что фильмы сами по себе аморальны, даже злы — это бред высочайшего качества, и не только из-за ущербной логики, но и из-за характерности обедненных моральных позиций, с которых мы теперь оцениваем кино.
Я заявляю, что фильмы Линча, по сути, о зле, и что линчевские исследования различных взаимоотношений человечества со злом, хотя и идиосинкразические и экспрессионистские, тем не менее, чувствительные и проницательные и верные. Я хочу признать, что реальная «моральная проблема», которую многие из нас, киноэстетов, находят в Линче — его истины морально неудобны, а нам не нравится во время просмотра кино чувствовать себя неудобно. (Если только, конечно, наш дискомфорт не используется для подведения к какому-нибудь коммерческому катарсису — возмездию, кровавой бане, романтической победе непонятой героини, и т. д. — т. е. если только дискомфорт не приводит к выводам, которые польстят все тем же удобным моральным убеждениям, с которыми мы пришли в кинотеатр).
Но суть в том, что Дэвид Линч владеет темой зла куда лучше, чем практически все, кто сейчас снимает кино — лучше, и еще по-другому. Его фильмы не аморальны, но они определенно антиформульны. Хотя его киномир пропитан злом, прошу отметить, что ответственность за зло не перекладывается с легкостью на жадные корпорации или коррумпированных политиков или обезличенных серийных психов. Линчу не интересно перекладывать ответственность и не интересно морально осуждать персонажей. Скорее ему интересны психические пространства, в которых люди способны на зло. Ему интересна Тьма. И Тьма в фильмах Линча всегда носит не одно лицо. Обратите внимание, например, как Фрэнк Бут в «Синем бархате» одновременно и Фрэнк Бут, и «Прилично Одетый Человек». Как в «Голове-ластике» весь постапокалиптический мир демонических концептов и чудовищных созданий и итоговых обезглавливаний — злой… но все же именно «бедный» Генри Спенсер становится убийцей детей. Как и в телесериале «Твин Пикс», и в кино «Огонь, иди со мной» «Боб» также Леланд Палмер, как они «духовно» одно целое. Зазывала фрик-шоу из «Человека-слона» злой и эксплуатирует Меррика, но это же делает и старый добрый доктор Тривс — и Линч аккуратно проследил, чтобы Тривс сам это признал. И если связность «Диких сердцем» пострадала из-за того, что мириады злодеев кажутся размытыми и взаимозаменяемыми, то это потому, что по сути они все одно, т. е. они служат одной силе или духу. Персонажи в фильмах Линча злы не сами по себе — зло их надевает, как маски.
Это стоит подчеркнуть. Фильмы Линча не о чудовищах (т. е. людях, внутренняя природа которых поражена злом), но об одержимостях, о зле как среде, возможности, силе. Это объясняет постоянное применение Линчем нуарного освещения и страшных звуковых полотен и гротескных персонажей: в его киномире некая внешняя духовная антиматерия висит прямо над головой. Это также объясняет, почему злодеи Линча не просто безумные или извращенные, но восторженные, увлеченные: они буквально одержимы. Вспомните об экзальтированном крике Деннис Хоппера «Я ТРАХНУ ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ» в «Синем бархате», или о невероятной сцене в «Диких сердцем», когда Диана Лэдд размазывает по лицу адски-красную помаду и кричит на себя в зеркало, или о взгляде «Боба» в фильме «Огонь, иди со мной», полном демонического возбуждения, когда Лора находит его в шкафу и едва не умирает от страха. Плохие парни в фильмах Линча всегда восторженны, оргазмичны, целиком наслаждаются пиками зла, и это не потому, что ими движет зло — оно их вдохновляет{50}: они посвятили себя Тьме. И если эти злодеи в свои самые страшные моменты притягательны и для камеры, и для зрителей, то не потому, что Линч «одобряет» или «романтизирует» зло, но потому, что он его диагностирует — это диагноз без комфортного панциря неодобрения, но с открытым признанием того, что зло потому такое могучее, что оно отвратительно энергично и пышет здоровьем и от него обычно невозможно отвести глаз.
Представление Линча о зле как силе имеет тревожные последствия. Люди могут быть и плохими, и хорошими, но силы просто есть. И силы — по крайней мере, потенциально — повсюду. Таким образом, зло Линча движется и меняется{51}, расплывается; Тьма во всем, всегда — не «рыщет во тьме» или «таится в логове» или «парит над горизонтом»: зло здесь и сейчас. Как и Свет, любовь, искупление (так как эти явления у Линча тоже силы и духи), и т. д. По сути, в линчевской моральной схеме нет смысла говорить о Тьме или Свете отдельно друг от друга. И тут зло не просто «подразумевается» добром или Тьма Светом, нет, но злое содержится в добром, закодировано в нем.
Это представление о зле можно назвать гностическим, или даосским, и нео-гегельянским, но еще оно линчевское, потому что главное, что делают фильмы Линча{52} — создают нарративное пространство, где эту идею можно проработать в мельчайших деталях до самых неудобных последствий.
И за эту попытку исследовать мир Линч расплачивается — и критически, и финансово. Потому что мы, американцы, любим, когда моральный мир искусства понятно прописан и четко демаркирован, чистенько и аккуратно. Во многих отношениях кажется, что нам от искусства нужно только, чтобы оно было морально комфортным, а интеллектуальные гимнастики, с которыми мы извлекаем черно-белую этику из произведений искусства, если внимательно присмотреться, шокируют. Например, предполагаемая этическая структура, за которую Линча больше всего хвалят — «Неприглядное подбрюшье», идея, что под зелеными лужайками и школьными пикниками Любого Города, США{53}, кипят темные силы и бурлят страсти. Американские критики, которым Линч нравится, восхваляют его «гений проникать под цивилизованную поверхность каждодневной жизни, чтобы показать странные, извращенные страсти», и его фильмы за предоставление «пароля к внутреннему святилищу ужаса и желания» и за «напоминание о злых духах под ностальгическими конструктами».
Неудивительно, что Линча обвиняют в вуайеризме: критикам приходится называть Линча вуайеристом, чтобы одобрить нечто вроде «Синего бархата», находясь в общепринятой моральной рамке, где Добро наверху/снаружи и Зло внизу/внутри. Но дело в том, что критики гротескно ошибаются, когда считают, что идея «нижней» извращенности и «скрытого» ужаса центральная для моральной структуры его фильмов.
Трактовать, например, «Синий бархат» как фильм, центрально сосредоточенный на «парне, который находит разложение в сердце города»{54}, так же глупо, как смотреть на малиновку на подоконнике Бомонтов в конце фильме и игнорировать мучения жука в клюве птицы{55}. Суть в том, что «Синий бархат», по сути, фильм о взрослении, и, хотя самая страшная сцена фильма — жестокое изнасилование, за которым Джеффри следит из шкафа Дороти, настоящий ужас в кино окружает то, что Джеффри открывает в себе — например, что часть его возбуждается при виде того, что Фрэнк Бут делает с Дороти Валленс{56}. Слова Фрэнка во время изнасилования «мамочка» и «папочка», схожесть между маской, через которую дышит Фрэнк, и кислородной маской, которую мы видели на отце Джеффри в больнице — такие вещи не просто усиливают аспект Первичной сцены в изнасиловании. Также они очевидно предполагают, что Фрэнк Бут, в жутком смысле, «отец» Джеффри, что Тьма внутри Фрэнка закодирована и в Джеффри. Сенсационное открытие Джеффри — не темный Фрэнк, но его собственное темное сродство с Фрэнком, вот откуда тревога в фильме. Отметьте, например, что длинный и какой-то тяжелый сон, полный тоски, который мучит Джеффри во втором акте фильма, происходит не после того, как он видел насилие Фрэнка над Дороти, но после того, как он, Джеффри, сам согласился во время секса ударить Дороти.
В кино достаточно подобных лобовых намеков, чтобы любой хотя бы минимально внимательный зритель понял, в чем настоящая кульминация «Синего бархата» и его посыл. Кульминация происходит необычно рано{57}, где-то в конце второго акта. Когда Фрэнк поворачивается к Джеффри на заднем сиденье машины и говорит: «Ты такой же, как я». Этот момент снят с точки зрения Джеффри, так что, когда Фрэнк поворачивается, он говорит одновременно и с Джеффри, и с нами. И здесь Джеффри — тому, кто врезал Дороти, и кому это понравилось — разумеется, крайне неудобно; как и — если вспомнить, что мы тоже подсматривали сквозь зазоры шкафа на пиршество сексуального фашизма Фрэнка и вместе с критиками посчитали эту сцену самой завораживающей в фильме — нам. Когда Фрэнк говорит «Ты такой же, как я», реакция Джеффри — дико броситься и врезать Фрэнку по носу — брутально первобытная, больше типичная для Фрэнка, чем для Джеффри, заметьте. В то же время в зале у меня, с кем Фрэнк также только что объявил родство, нет такой роскоши — выплеснуть жестокость; мне по большей части остается сидеть и чувствовать неудобство{58}.