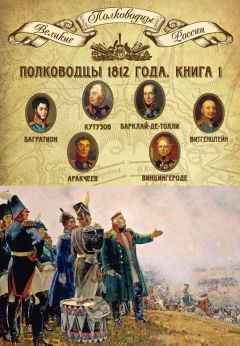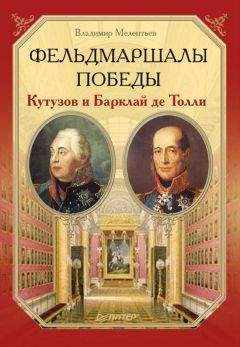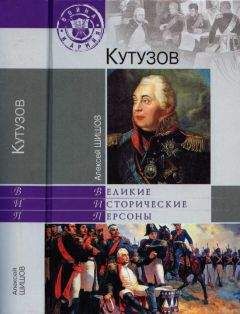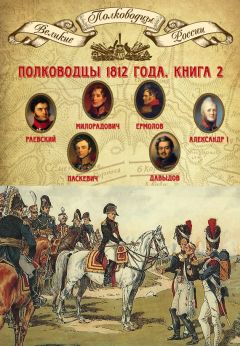Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
(Попутно замечу: деревенская проза столько лет была на виду, а все не понята. Кто бы сказал Валентину Распутину, что был он в ту пору единственным правоверным футуристом в словесности, точней — будетлянином, ибо хлебниковцем. Мистик и националист, подобно учителю, он, во исполнение навряд ли хорошо ему известных заветов, сочинял свои лучшие повести на утопическом славянском наречии, плачевном, молитвенном и корнесловном, на котором никакой русский народ, за исключением отдельных персонажей «Доктора Живаго», отродясь не разговаривал. Вот он откуда, Распутин, от Хлебникова и Пастернака, да еще Карамзина-летописца. И последнее: место ему в грядущей истории нашей литературы — возле Владимира Сорокина, с поправкой на разницу дарований, у последнего оно более мощное. Валентин Григорьевич от таких концептуалистских наветов, небось бы, как черт от ладана, шарахнулся, но сделать уже ничего невозможно. Авторов непоправимо роднит национально-русский утопический лингвоперфекционизм и более общая, чрезвычайно густая национальная атмосфера текстов, их невероятно преувеличенная языковая русскость, временами архаическая и сектантская, в такой концентрации несбыточная и не бывшая, не бытовая. А то, что Распутин для Сорокина — один из видов подножного корма, так это забудется, улетучится. Я отвлекся, простите.)
Неподалеку от мечей и орал дрожали противоречивые космодромы Буранного Полустанка (какой ностальгической прелестью тянет от этой забытой словесности!), воздух переполняло откровение в грозе и буре, и мышление, хоть топор вешай, стояло исключительно планетарное — любое другое для автора было слишком трудным. В итоге угрюмый космодром, аскетичная война и погибающая деревня сформировали прелюбопытный околосоветский контекст тревоги, предчувствия и провала (он еще найдет своего исследователя), в каковой контекст естественно, как корабль в порт назначения, с Востока вошел Кэндзабуро Оэ, принесший с собой освежающие международные веяния катастрофы. Сочинитель прозападного склада, он не настаивал на иероглифической самобытности, но с легкостью транслитерируя японские церемонии в деловую латиницу, неожиданно завоевал популярность на кириллических территориях. В его романе «И объяли меня воды…» природа валялась в таком же страшном беспорядке, что и у русских почвенных экологов, угроза вселенского непотребства могла бы разжалобить Дракулу, а символическое наводнение протекало параллельно с пожаром, как в образцовом сумасшедшем доме. Русское сознание уже потеряло интерес к такого рода бедламу (его национальный кинематографический аналог можно найти в претенциозно-безвкусных «Письмах мертвого человека» Лопушанского и отчасти в «Сталкере» Тарковского), но стокгольмский ареопаг все оценил по достоинству, да к тому же у японского романиста были еще в запасе добротный социальный экспрессионизм и захватывающая тема куда-то опоздавшей молодежи.
Кэндзабуро Оэ идеально совпадал со стокгольмским счетом, с его политикой и эстетикой, с целым комплексом его предпочтений, о котором стоит сказать пару слов.
От политики, общественности и морали на этой земле никуда не уйти, а уж Нобелевскому комитету и подавно. Первое же присуждение литературной премии в 1901 году сопровождалось изрядной неловкостью: любой профан понимал, что русский граф и писатель Лев Толстой позначительней будет французского стихотворца Сюлли-Прюдома, награжденного за «выдающиеся литературные достоинства, в особенности же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необычное сочетание душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги». И хотя Лев Николаевич, возможно, отказался бы от награды и спровоцировал конфликт в самом зародыше великой традиции, премии ему никто не предлагал ни тогда, ни потом, ибо к тому времени знаменитый старик бесповоротно испортил свои отношения с церковью и государством, развивая в многочисленных сочинениях опаснейшие анархические воззрения, а это уже ни в какие ворота.
Проблема эта нешуточная — поди предугадай, что будет по ходу Лекции кричать на весь мир, захлебываясь от ненависти, презрения и ослепительного сарказма, Луи Фердинанд, допустим, Селин и какое еще неприличие задумает учинить на глазах у почтеннейшей публики Жан, к примеру, Жене. Писателей подобного типа стокгольмские академики не видят в упор, и тут никакие художественные заслуги не помогут, только усугубят, да и кто шведов, положа руку на сердце, серьезно осудит, если Селин, литератор великий, той же недрогнувшей кистью живописал погремушки для наших с вами погромов, а Жене, уж какой изрядный нарратор, с возрастом перестав быть подстилкой для международной криминальной шпаны, начал идейно совокупляться со всем терроризмом на свете, не упустив ни «Черных пантер» из Америки, ни «Красную армию» Баадера — Майнхоф из Европы, ни смуглокожих и гибких, как палестинская лоза, отроков с автоматами Калашникова, что на сопредельных с нами просторах, не говоря уже о том, что всю свою долгую жизнь во словесности выворачивал наизнанку мораль, прославляя кровавое очарованье предательства, — с этим что делать, скажите? То и делать, что ничего не давать, хватит с них публикаций.
Альфред Нобель всей душой был за нравственный идеализм словесности, и, памятуя о вкусах учредителя, в Стокгольме чураются радикальной политики и прямой идеологической вербовки, о чем откровенно поведал лет десять назад в интервью Ларс Юллестен, долгое время возглавлявший премиальный распределитель. Коммунисты если и не вовсе дискриминируются (исландский прозаик Хадльдоур Лакснесс и чилийский поэт Пабло Неруда удостоились лауреатских венков), но явно не приветствуются, и стоило в 1979 году взорам награждающих неумолимо остановиться на Греции, как поэт Одиссеас Элитис был предпочтен своему соотечественнику Яннису Рицосу главным образом по причине марксистских воззрений последнего. За шестнадцать лет до того премию выдали еще одному греку, хорошему, говорят, поэту Георгосу Сеферису, сочинявшему на просторечной димотике, а не на выспренней кафаревусе. Комментаторы восхищались его замечательной искренностью и чистотой скорбных эмоций, а молодежь его обожала и соборно похоронила в пору «черных полковников», распевая в траурном шествии свободолюбивые песни на стихи покойного мастера. Да только наградили Сефериса за собственный, стокгольмский грех и комплекс вины, убоявшись десятилетием раньше связаться с великим Никосом Казандзакисом — он был бунтарь, кощун и крамольник, сжигаемый дерзким огнем: огненный Казандзакис, говорили о нем и, конечно, не дали ему ничего, но это и к лучшему.
Когда же в Стокгольме, отступив от собственных правил, вознамерились залучить в расчисленный круг светил Сартра, застигнутого в апогее его беззаконного, как комета, радикализма, то нарвались не только на унизительный формальный отказ, но и выслушали вполне содержательную отповедь: одно дело, если венесуэльских партизан поддерживает вольный литературный стрелок, и совсем другое, если он при этом стоит на нобелевских котурнах, превращаясь в общественный институт и тем самым дискредитируя — оцените тонкость издевки — независимый от политики комитет. Именно Сартр, заботясь о репутации ареопага, присоветовал персону Шолохова, чтобы замять пастернаковский казус, и академики пошли на бесстыдство, отлично осведомленные о «шекспировской» проблеме «Тихого Дона», которая как черное солнце зависла над злосчастным текстом.
Известная доброкачественность кандидата как нерушимая презумпция выбора, осложненного давлением жестоко привходящих обстоятельств, — такова не слишком, может быть, частая, но характерная лауреатская смесь. С полнейшей демонстративностью это успокоительно-приворотное и замиряющее снадобье было опробовано в 1917 году, когда награда досталась не Бог весть какому датско-немецкому литератору Карлу Адольфу Гьеллерупу, ныне совершенно забытому всеми, кроме кем-то избранных германистов. «Значительную роль в присуждении Нобелевской премии по литературе 1917 г. — бесстрастно отмечается в энциклопедическом премиальном двухтомнике — сыграли политические соображения. Хотя Швеция во время Первой мировой войны оставалась нейтральной, ее близость к Германии воспринималась неоднозначно. Состоявшиеся встречи королей Дании, Норвегии и Швеции были призваны упрочить единство скандинавских народов. Чтобы лишний раз продемонстрировать нейтралитет Швеции и ее дружеские связи с Данией, Шведская академия наградила сразу двух датских писателей — Гьеллерупа и Хенрика Понтопиддана» (эта кандидатура, замечу, была еще куда ни шло — «Счастливчика Пера» я в юности перелистывал без всякого отвращения, которое легко может вызвать многотомная проблемная сага. — А.Г.). Автор, сообщает далее словарь, был удостоен всех почестей «за многообразное поэтическое творчество и возвышенные идеалы», однако большого счастья это никому не принесло, потому что на родине, в Дании, Гьеллерупа считали писателем по преимуществу немецким и отнеслись к стокгольмскому дару без воодушевления.