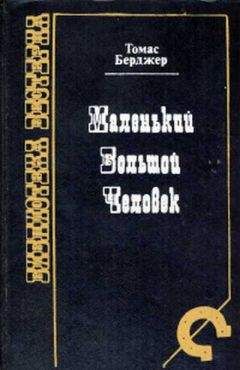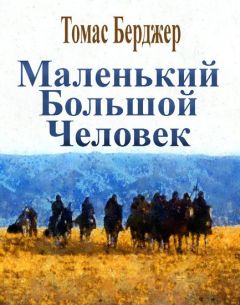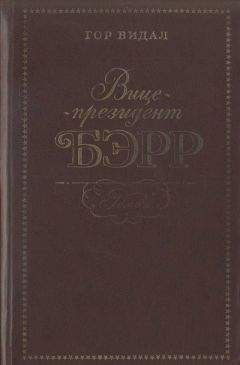Томас Берджер - Маленький Большой Человек
В руках у него длинная индейская трубка с черенком эдак фута на два – на три и каменная чаша; глаза не мигая глядят на меня, а сам он – истукан истуканом: не шелохнётся и ни гу-гу.
Зная Лавендера, я мог бы и не обращать внимания на видимое отсутствие гостеприимства: в конце концов, ему было гораздо хуже, чем мне: оба мы прожили достаточно долго у индейцев, оба были им чем-то обязаны, оба против своей воли возвращались к ним с войсками; но я пролез в армию исключительно в силу своей хитрости, не был вписан ни в какие реестры и жил, что называется, сам по себе: хочу служу, хочу – нет; Лавендер же – проходил по всем бумажкам, за службу получал жратву и деньги и, хочешь – не хочешь, а должен был их отрабатывать. Так что, как бы он ни пекся об этих индейских традициях, как бы свято их ни блюл, а суть вещей от этого не менялась: он был наемником и вместе с бледнолицыми шёл громить своих краснокожих собратьев! Так, во всяком случае мне представлялось в ту пору, когда и сам я был никем иным как соучастником готовящихся кровавых злодеяний.
…Ох, немало ж воды утекло с тех пор! Не скажу, что поумнел, но что изменился – это факт! Вот и прошлое – окинешь взглядом, а в нем – какой-то непонятный Джек Крэбб с какими-то странными амбициями, речами, поступками; иногда просто диву даешься: неужели это я? И вот этот самый Джек Крэбб непонятно с какой стати, но знаете ли, кичится перед Лавендером: то ли, значит, высотой своих помыслов, то ли мнимой своей независимостью, то ли – что совсем уж смешно! – принадлежностью к племени Кастера, Боттса, Большого Улисса, то бишь людей, что этого Лавендера и поят, и кормят, и одевают, и ещё деньги дают, чтобы, значит, шёл убивать своих бывших друзей, или соплеменников, или кто они ему там. Ох, запутался ты, Джек, запутался, и даже не понял, что несмотря на всю мелочь различий, оба вы одного поля ягоды, одного пера птицы, одной недоли дети; – вам и держаться вместе! Покричать, что ли? Да разве до себя докричишься?… «Эй, Джек!» – неужто услышит? Кажись, услышал…
…Его безразличие к моей персоне меня не то что задевает, но как-то, знаете ли, коробит – в конце концов я, может, единственная для него родственная душа и уж как-нибудь да заслужил более душевного к себе расположения! В общем, обиделся я и даже повернулся уходить, бросив ему напоследок: «Не думал я, что ты такой занятой,- иначе б и не приходил!» – когда взгляд его несколько поосмыслился, и он прошлепал одними губами: «Входи и садись».
Так я и сделал, и вскоре мы передавали друг другу трубку, погрузившись в раздумия о нашем, значит, неприкаянном житье.
– Пожалуй, что деваться некуда,- подвел я некоторый итог своим раздумиям после пятой затяжки.
– Пожалуй, что так…- после длительной паузы согласился Лавендер.
Я выдохнул облако пахучего дыма – смесь была ещё та, настоящее индейское зелье, небось доставал где-то; да хоть у тех же ри…
– Слышь, Лавендер,- спросил я,- а ты ведь мне так и не сказал, чего тебя в армию понесло, в твои-то годы…
– Да вот… на родину потянуло – родные места поглядеть… Помирать скоро буду.
Я ещё подумал-подумал и понял, что он имеет в виду, и оценил его простую искренность. Ну вот, казалось бы, чего там в этих его родных местах: кактусы да полынь; чапараль да мискит; ну, тополя кое-где; бузина всякая, а больше и нет ничего – холмы да овраги; а вот поди ж ты – не может без них человек, не может – и всё тут! Говорят, рыба такая есть: всю жизнь ходит себе, ищет где кормёжки больше, а как помирать, так не куда-нибудь, а в родную речку, вот оно как бывает…
– Лавендер, а, Лавендер! А ты встречал кого-нибудь из этой своей родни, ну, что потомки того, знаменитого, который путешествовал с Кларком и Льюисом?
– Нет, – вздохнул Лавендер, – никого. Ни одного человека, о ком можно было бы сказать с уверенностью – да, это он. Правда, среди Лакотов попадаются смуглые, очень смуглые лица, но откуда они взялись, как их разберешь! Да и не в этом дело. Я ведь толком-то даже и не искал а как попал в племя, так, как бы это сказать… в нём и нашёл всю родню, какая мне была нужна. Да ты ведь и сам знаешь: чужаков они – кто любит, кто не любит, но нет в их сердцах ненависти, ненависть они берегут для врага.
Лавендер откинул одеяло пошире. Презрев дым и чад от нашей трубки, в шалаше радостно завыли комары. Похоже было на то, что сидя на ветках, они всю жизнь только и дожидались, пока мы появимся у них под кустом, чтоб утолить их сосущую жажду до следующей великой оказии. Пыхнув трубкой ещё два раза я ощутил зуд во всех сколько-нибудь уязвимых участках тела.
– Да-а, грызутся,- хлопнув себя по лбу, отметил я.- Вот и эти… такие же.
Говоря об «этих», я имел в виду уже не комаров. Но Лавендер понял меня с полуслова.
– Да-а,- кивнул он,- ты бы слышал, как они честят Кастера – слова такие, будто он всем и каждому самый что ни на есть кровный враг! Ну, разве вождь и племя не одно и то же? И разве во главе племени может стоять кровный враг? Джек, они его ненавидят, ненавидят и презирают одновременно, и не только его одного. Здесь каждый ненавидит каждого и все презирают всех, и все… с этим смирились. Возьми вот Рино: ну, какой мужчина потерпит, чтоб ему безнаказанно дали пощечину? А в Линкольне, в офицерском клубе, капитан Бентин отвесил ему такую оплеуху, что весь клуб вздрогнул – и ничего… А Бентин? Письмо в газеты написал – про Уошито, очень плохое письмо, очень Кастера обидел. Кастер хотел его плеткой отстегать, а капитан – за пистолет: «Попробуй!» – говорит. Но Кастер уже передумал и пробовать не стал.
Лавендер осуждающе покачал головой – то ли в адрес Кастера, то ли в адрес Бентина.
– Я тебе про Бентина вот что скажу,- добавил он спустя затяжку, – ты-то, может, и не знаешь, но сам он из южан, а как началась война, он – единственный из всей семьи! – переметнулся к янки, под полосатый флаг, и тогда старый Бентин горько пожалел о том, что поролил такое чудовище – предателя, и проклял его, и попросил у небес, чтобы младшего Бентина убили в первом же бою! Но в первом же бою Бентина не убили, а как подвернулась возможность, он сам попросил какого-то большого генерала, и старого Бентина упекли в федеральную тюрьму – до самого конца войны! Вот ведь как – родного отца! – в тюрьму засадил…
– А моего отца убили Шайены, – зачем-то признался я.- Его убили, а меня вот – вырастили и воспитали, как родного сына…
– А я своего даже ни разу и не видел,- сказал Лавендер.- Хозяин продал его, когда меня ещё и на свете не было…
– …А я…- и тут, повинуясь какому-то безотчетному чувству, я рассказал ему всю свою жизнь: про Олгу и Гэса; про Солнечный Свет и Утреннюю Звезду; про Бешеного Билла и Амелию; про то, как оно вышло у меня в Денвере, и про то, что случилось на Уошито.