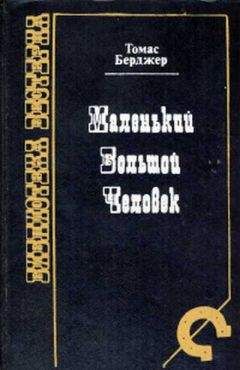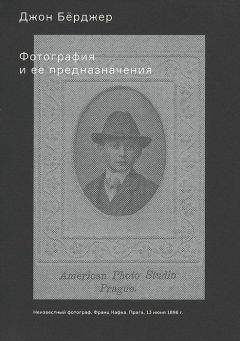Томас Берджер - Маленький Большой Человек
…Да-а-а, всю жизнь нас преследуют романтические идеи юности. Вот и за мной, куда б не забросила меня судьба, неусыпно охотился светлый образ миссис Пендрейк. Иногда закроешь глаза и представляешь себе: вот ты, значит, входишь в дом, а на пороге Она, миссис Пендрейк – в чём-то таком, простом и домашнем, и вот она протягивает к тебе руки…
– …И никого из прихожан, хоть они и белые, даже на порог не пустила…- некстати донесся до меня голос Лавендера.
Вот так всегда: не успеешь размечтаться, как на тебе – вечно найдется какой-то нелепый Лавендер со своим языком: бу-бу, бу-бу – все мечты распугает! А ещё рыболов называется… Нет уж, как хотите, а настоящая, возвышенная любовь (про которую в книжках пишут) в нашем низменном мире как бы даже и не жилец – ей, бедной, только и остается, что вот, как миссис Пендрейк, забаррикадироваться в доме, а посторонних и на порог не пускать,- ничего, пускай не лезут, хоть и белые, хоть и чёрные! Она, может, от всех и отгородилась только потому, что меня ждёт; может, ей всю жизнь только меня и не хватало: ступаю на порог, а она… ну, об этом я уже мечтал. Возвышенная любовь, она и есть удел мечтателей, а я, как вы понимаете, мечтатель. Оно бы, конечно, и здорово махнуть рукой на всякую мелочную дребедень, прыгнуть в седло и в дорогу – навстречу большой мечте; но как подумаешь, что тебе уже тридцать шесть, и пол-жизни за плечами, а ещё долги надо раздать, и… вместо дребедени махнешь на большую мечту; не про нас он, этот пирог! С годами, знаете, даже в любви из радикала становишься консерватором.
На том я и успокоился. И вместо умозрительного созерцания миссис Пендрейк со всеми её мыслимыми и немыслимыми прелестями, я малодушно погрузился в созерцание реки Йеллоустоун с её плавным течением и бликами на воде. Невольно пришлось обратить внимание и на удочку, а с нее и на Лавендера: оказывается, все это время он продолжал шлепать губами и что-то рассказывать, ни дать ни взять, как та рыба.
– …При доме я пробыл ещё с год. Но со смертью Пендреика дом потерял хозяина, а без хозяина и дом – не дом. И тогда я стал думать. И думал-думал… Джек! – тут Лавендер хлопнул ладонью по земле.- Джек, так ведь это ж ты и был! Ну да! Это ж мы с тобой и говорили – ну, помнишь? – про индейцев и про то, как ты у них жил… Точно-точно, я хорошо помню, то есть, не тебя, а наш разговор (аи да Лавендер, аи да уважил!), ну, так вот, я и подумал: чего я делаю в этом женском доме, доме, где нет хозяина, я, свободный человек, которому давным-давно честный Эйб дал свободу? «Да пропади они пропадом!» – сказал я себе, взял сухарей и подался на Запад. Видимо, позвал меня голос родной крови, да я тебе рассказывал про моего родича, что ходил с капитаном Льюисом и капитаном Кларком…
Действительно, историю про Кларка и Льюиса (а в изложении Лавендера она выглядела историей этого раба, кажется, Йорка, у которого эти двое были вроде мальчиков на побегушках) я слышал неоднократно, и похоже, был обречен слушать ещё не раз – Лавендер собирался идти с нами до самого победного конца, пока, правда, неизвестно, чьего… Не преминул он рассказать её и сейчас – видно, для него она и впрямь была чем-то вроде отправной станции; но дилижанс его рассказа тянулся до того медленно, что я чуть было не заснул, и даже наверное заснул бы, если бы, закрывая глаза, тут же не натыкался на укоризненный взгляд Пендреика. А закрыть глаза на Пендреика всякий раз означало проснуться. Так всю дорогу меня и бросало то в жар, то в холод, пока на очередной станции не зазвонил колокольчик.
– …И пристал я к племени Лакотов, где вождём был старый и мудрый индеец по имени Сидящий Бык.
– Чего-чего? – подскочил я, окончательно проснувшись, – не может быть!
Гляжу – а Лавендер медленно наливается краской, багровеет и прямо, значит, на глазах из чернокожего преврапхается в краснокожего. Тут-то я и понимаю: «Может! ещё как может! Вот как он сказал – так, значит, оно и было! Хау».
Вот как ты опростоволосился, Джек, – перо в шляпе-то приметил, а то, что оно орлиное, внимания не обратил; думал – оно для красоты, а оно – вот оно что… Лавендер под ним орёл-орлом – зыркает сверху вниз, глаз острый, пронзительный, в горле клекот, но наружу ни звука – ждёт. И ведь прав шельмец: то, что можно сказать черному бою, никогда и ни при каких обстоятельствах не моги говорить свободному жителю прерий, тем более такому стервятнику – да за подобное оскорбление он тебе все глаза повыклюет! Я, как вы знаете, индейцев на своем веку повидал немало, и давно уже заметил такую их общую особенность: слово индейца – это как бы часть его самого, и выразить недоверие к его слову всё равно, что сказать, что он – не он.
Так что хочешь-не хочешь, а надо идти на попятную, благо, для меня слова весят куда меньше и гордость не такая раздутая.
– Ты, Лавендер, меня не так понял,- отступил я на шаг, успокаивая его жестом открытой ладони.- Я нисколько не сомневался в правдивости твоих слов: ты сказал – и для меня этого достаточно. И если я говорю, что чего-то не может быть, то это не потому, что быть этого не может, а потому что изумлен тем, что оно случилось. Подумать только, мой старый друг Лавендер встречался с самим Сидящим Быком! Это ведь против него мы идем сражаться? Да?
– Это правда,- важно кивает Лавендер, и я понимаю, что прощён. Что ж, пребывание у Лакотов даром для него не прошло: он перестал быть чёрным служкой белого человека и с гордостью истинного краснокожего больше не позволял ставить свои слова под сомнение. Одно жаль – в сравнении с другими краснокожими язык у него трудился что та ветряная мельница, но возможно, это было следствием его долгого молчания. – Пожив у Лакотов, я взял себе в жёны хорошую женщину, – тем временем продолжал он, и голос его потеплел – она была из племени хункпапа и была мне хорошей женой. И жили мы с ней в нашем типи очень хорошо. И прожили так несколько лет… – Лавендер мотнул головой, как бы отгоняя воспоминания; и пух его орлиного пера дрогнул, затрепетал, как ресницы, когда пытаются задержать слезу, – Они очень хорошие люди, Джек! А Сидящий Бык, он настоящий вождь, он, если хочешь знать, это гений. Когда он хочет увидеть, что происходит на земле, он просто закрывает глаза и… видит!
– Да,- соглашаюсь я.
– Это правда,- кивнул он.
Нос Лавендера, и так не маленький, теперь стал ещё больше, ноздри раздулись и на закрылках заиграли солнечные зайчики:
– Вот ты вспомнил Преподобного Пендрейка, Джек; ты сам его вспомнил, да? А ты не думал, что всю жизнь он как бы скрывался за теми высокими словами, что сам же проповедовал и нёс другим людям как слово Божье? Нет, я не против этих высоких слов – это и в самом деле очень хорошие слова, и даже, наверное, священные слова… Но, как бы это сказать? Слова для пастора были одно, а сам он – совсем другое; слова жили отдельно, а пастор отдельно. Как так получается, Джек?… Нет, иногда он, конечно, поступал по Слову Божию; вот и меня выкупил у старого хозяина и дал свободу ещё до того, как честный Эйб написал свой Билль о правах, но, Джек, всякий раз, как он поступал сообразно Слову, это было настолько непохоже на пастора, что, казалось, будто это не он, а неизвестно кто, дурак какой-то! Джек, может, я существо и неблагодарное, но знаешь, мне до сих пор почему-то кажется, что пастор, он как бы и был, и… его как бы и не было, ты меня понимаешь, Джек?