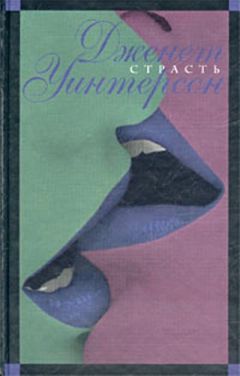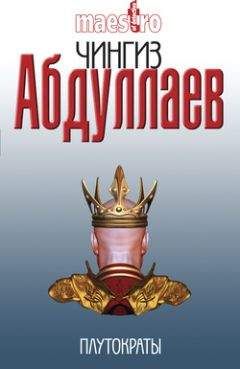Арон Ральстон - 127 часов. Между молотом и наковальней
Однако видеокамера пережила песок и беспорядок в рюкзаке. Забив на музыку, я решаю немного поснимать. Мне приходит в голову, что начинается период самой высокой вероятности того, что я все еще буду жив, когда меня найдут. Я надеваю рюкзак и закрепляю лямку на плече в пятидесятый раз. Положив камеру на каменную пробку, стараюсь успокоиться и собраться с мыслями. Когда я начинаю говорить, меня ошарашивает мой собственный голос — он стал тонким и высоким. Еще одно напоминание о том, что я почти умер и жду прихода старухи с косой.
— Я просто думал… Сегодня четверг, примерно девять утра. Сейчас начинается период высочайшей вероятности, пересечение временных интервалов… может быть, кто-нибудь обнаружит меня еще живым.
«Это почти хорошие новости», — думаю я. Но если помнить о том, что окно вероятности спасения установлено мной с сегодняшнего дня и до воскресенья, нет причин надеяться на скорую помощь. Мои шансы выросли. Спасение было «смехотворно невероятным», теперь оно «совершенно неправдоподобно». Я не задерживаюсь на этой мысли. Фактически из-за того, что сознание спутано постоянным и углубляющимся оцепенением, я не могу сосредоточиться ни на чем конкретном. Не хватает ментальной устойчивости. Я почему-то думаю о своей сестре и ее свадьбе. Они с Заком просили меня поиграть несколько минут на пианино во время предстоящей церемонии в августе, и я согласился. Очевидно, что я не смогу; меня там даже не будет. Это вызывает у меня уныние, но я понимаю, что есть что-то, что я могу сделать.
— Соня… если ты все еще хочешь, чтобы я играл на твоей свадьбе… там есть кассета — в коробке, в подвале родительского дома. На ней написано что-то вроде «Всякое-разное на пианино» или «Моя музыка». Там есть кассета. Это мои записи, я играю в основном акустические песни, девяносто третий — девяносто четвертый год.
Я тут же воображаю, как она вставляет кассету в магнитофон в родительском доме и слушает песни вместе с мамой. Я знаю, им будет очень трудно слушать музыку, которую я играл так прилежно десять лет назад: любимые пьесы Моцарта и Баха, Бетховена и Шопена. Еще одно видение вдруг посещает мой мозг, на этот раз — свадьба. Не могу точно сказать, где это место, но где-то за городом, на открытом воздухе. Та же фортепианная музыка льется из громкоговорителя, собирается в грозовое облако и обрушивает на наше большое семейство ливень горестных слез. Моя смерть омрачит свадьбу Сони, но я знаю, что она справится с этим. Нет причин и поводов откладывать. Жизнь продолжается для живых.
Я рассеиваю в уме изображения мамы и сестры, оставляя мысль незаконченной, я вернусь к ней позже. Есть еще одна важная вещь, о которой я забыл упомянуть, это касается моих финансов. Я начинаю объяснять свои пожелания относительно пенсионных накоплений.
— Еще, конечно же, мои индивидуальные счета в «Шваб» могут перейти к Соне, если…
Я не заканчиваю фразы. Мозг охвачен спазмом разрозненных мыслей, он в растерянности. Была какая-то идея, которую я пытался выразить, но я не помню, что это было. Я плыву по поверхности, лишенный выражения, потерянный, затем натыкаюсь на другую стремительную мысль, но не успеваю поймать ее и перевести в слова. Мысль тонет, уходит под поверхность океана сознания, затем всплывает снова. На этот раз я ловлю ее. Это касается моей кремации и процедуры развеивания пепла.
— Ох… гм… пояснение… Найф-Эдж… Для той части меня, которая вернется в Нью-Мексико. Боске и Найф-Эдж… Восхождение на Найф-Эдж остается одним из моих любимых. Так что, может быть, Дэн, Виллоу, Стив де Рома, Джон Джекс, Эрик Немейер и Стив Пэтчетт сделают это.
Снова откашлявшись, я нажимаю серебристую кнопку записи на задней части видеокамеры. Я надеюсь, что сказанное мной послужит одновременно и приличествующим случаю прощанием, и последней волей. Я рассказал, что нужно сделать с моими личными вещами и финансами, разобрался со своим имуществом, которого не так уж много, постарался передать как можно больше сестре. Можно было бы организовать все это более четко, но я измотан мыслительными усилиями и не хочу больше ни редактировать, ни переделывать запись. В последний раз я складываю экран камеры и кладу ее в щель между левой стороной каменной пробки и стеной каньона.
Жалкий и убогий, я смотрю, как проходит еще один пустой и бессмысленный час. По крайней мере, мне не надо бороться за то, чтобы согреться. Обжигающий холод атмосферы больше не сосет тепло из моего тела, как это было ночью. Но днем отсутствует необходимость мотать веревки вокруг ног, оборачивать чем-то руки — и это лишает меня хоть какой-то осмысленной суеты в этом каньоне. Мне не на что отвлечься и нечего делать. У меня нет жизни. Только при осмысленных действиях моя жизнь становится чем-то большим, чем существование. Когда мне нечем заняться и нет никаких стимулов, я не живу, не выживаю. Я просто жду.
С тех пор как отдача ударов каменной кувалды разбила мою левую руку, все, что мне осталось, только ждать. Ждать чего, однако? Спасения… или смерти? Мне все равно. Оба исхода несут с собой одно и то же — избавление от страданий. Бездеятельность невыносима, она порождает апатию. Сейчас само по себе ожидание — худшая часть моего заточения. И когда я закончу ждать, все, что мне останется, — это ждать снова. В этих приступах хандры я могу, кажется, потрогать вечность рукой. Ни намека на то, что это бездействие когда-нибудь закончится.
Но я могу закончить его сам. Я могу игнорировать боль в левой руке и продолжать бить по каменной пробке каменным молотком. Я могу ковырять камень ножом, несмотря на бесполезность этого действия. Я могу делать все то, что делал последние пять дней, просто ради движения. Я беру круглый «ударный» камень, потом вспоминаю, что мне понадобится носок для смягчения ударов. Долой кроссовку, долой носок — у меня появляется прокладка для избитой ладони. Ушибы на мясистой части большого пальца — самые болезненные, они буквально молят об отмене приговора, от первого удара до пятого, на котором я делаю паузу. Адреналиновое возбуждение переходит в гнев, и я поднимаю молоток еще раз, желая возмездия за то, что этот несчастный огрызок геологии сделал с моей левой рукой. Трах! Я бью по камню, боль в руке пылает. Бабах! И снова. Хрясь! Фиолетовые пятна гнева расцветают в мозгу поверх грибообразного облачка из песчаной пыли. Носок страшно воняет горелым оттого, что попадает между камнем и камнем и плавится в жаре трения от каждого удара. Я бью снова и снова. Трррах! Я рычу от животной ярости в ответ на пульсирующую боль в левой руке.
Я заставляю себя остановиться и не могу выпустить из руки каменный молоток — пальцы свело судорогой.